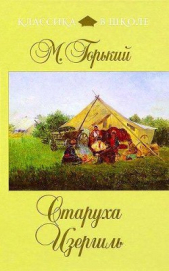Я люблю

Я люблю читать книгу онлайн
Авдеенко Александр Остапович родился 21 августа 1908 года в донецком городе Макеевке, в большой рабочей семье. Когда мальчику было десять лет, семья осталась без отца-кормильца, без крова. С одиннадцати лет беспризорничал. Жил в детдоме.
Сознательную трудовую деятельность начал там, где четверть века проработал отец — на Макеевском металлургическом заводе. Был и шахтером.
В годы первой пятилетки работал в Магнитогорске на горячих путях доменного цеха машинистом паровоза. Там же, в Магнитогорске, в начале тридцатых годов написал роман «Я люблю», получивший широкую известность и высоко оцененный А. М. Горьким на Первом Всесоюзном съезде советских писателей.
В последующие годы написаны и опубликованы романы и повести: «Судьба», «Большая семья», «Дневник моего друга», «Труд», «Над Тиссой», «Горная весна», пьесы, киносценарии, много рассказов и очерков.
В годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом, награжден орденами и медалями.
В настоящее время А. Авдеенко заканчивает работу над новой приключенческой повестью «Дунайские ночи».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Можно, наконец-то, отоспаться вволю. Я хочу заснуть, а сон не идет.
Забываюсь. Чувствую на голове горячую руку и слышу добрый голос:
— Саня!..
Чудится мне, будто это бабушка поет надо мною песни. Открыл глаза и вижу: стоит у моей головы обросший чужой мужчина и смеется — не дождался, пока я поднимусь с соломенного матраца, схватил голову и больно защекотал колючей бородой мои губы.
По пустому рукаву я узнал Кузьму.
Он ласкает меня и, не стесняясь своей бороды, плачет. Потом вскидывает руку и кричит:
— У, гады, гады проклятые!
Прижал меня к груди, выскочил из землянки на улицу.
Собачеевка тоже спешила на улицу, надев самое лучшее, что вынималось из сундуков только в годовые праздники. Все вышли и все веселые.
Что же сегодня за день? Праздник? Почему же тогда Собачеевка не пьяна, не матерщинит, не бьет в кровь морды? Почему не сходятся в поножовщину шахтеры и металлисты? Почему забойщик Коваль не поет своих пьяных песен?
— Революция!.. — Кузьма бежит по улице, машет картузом, смеется и плачет.
И многие тоже смеются и плачут.
— Россия без царя!
— Слава тебе, господи!
— Во жисть пойдет, а?!
— Ррреволюция!.. Матушка, пришла все-таки, долгожданная!.. Ух ты, ух!..
— Свобода, солнце красное!..
Красное, красное, все красное — и солнце, и флаги, и косынки, и платки, и платья на женщинах, и рубашки на парнях, и банты в косах у девчат.
Со всех концов донецкой земли стекаются в город люди. Идут шахтеры — с шахты «Иван», с «Амура», с «Марковки», с «Глубокой». Идут заводские с «Униона», трубопрокатчики, коксовики. Идут грузчики. Все люди бросили работу, поднялись со своих насиженных мест, все спешат на просторную базарную площадь, всем хочется быть вместе.
Опустела Собачеевка — и стар и млад хлынули вслед за Кузьмой. Даже бывший стволовой Никита, калека, с изуродованной в шахте ногой, выполз на горбатую улочку и, опираясь на свою вишневую клюку, проковылял к городской площади, забитой народом.
Ни один собачеевский хлопчик не остался дома, в землянке. И девчонки бросили свои куклы.
Праздник, небывалый праздник. Для всех и каждого.
Васька Ковалик, в новой желтой рубашке, но в старых штанах, в опорках, в отцовском картузе, в материнской теплой кофте, подпоясанный витым шнурком, с огромным, как подсолнух, красным бантом на груди, шныряет в ногах людей, начальственно размахивает руками, командует ребятами, а то и взрослыми, шумит больше всех, сияет своими глазищами, радуется, будто он главный сегодня на улице, будто в его честь устроен праздник. И такой стал важный, гордый, что не замечает ни меня, ни остальных своих друзей. Только с одним Кузьмой дружески разговаривает, только одному ему улыбается. Ишь, какой революционер! Забыл, что мы вместе распространяли прокламации. И Кузьма забыл меня. Брат я ему, а дальше сейчас от него, чем чужой Васька.
На деревянную скобяную лавчонку, бесшабашно опрокинутую на бок со всем ее содержимым, вскарабкиваются один за другим шахтеры с подчерненными углем глазами, рыжие доменщики, огненнолицые сталевары, трубопрокатчики. Сменяя друг друга, подняв над головами кулаки, сверкая белыми зубами, кричат на всю площадь, ораторствуют — клянут кровавого царя, его министров-собак, хвалят на все лады революцию, радуются, что она разразилась, как весенняя гроза.
Вскарабкался на деревянную халабуду и Васька Ковалик. Победно стоит на самой ее вершине, — голова с белесым чубом гордо откинута, руки засунуты в дырявые штаны, ноги расставлены, облупленный нос хвастливо задрался кверху. Молчит, а мне кажется, что тоже ораторствует.
Пришла очередь говорить с народом и Кузьме. Узкоплечий, обросший черной бородой до глаз, в черной тужурке с пустым рукавом, черноглазый, строгий, он поднял над ладно причесанной головой кулак, бросил звонкое, до каждого сердца доходчивое, всем людям родное, долго запрещенное слово:
— Товарищи!..
Притихли рабочие люди, приветливо смотрят на Кузьму, терпеливо-охотно ждут, что он скажет, чем порадует, куда позовет. Я тоже смотрю на него, и мне хочется смеяться и кричать, чтоб слышала меня вся площадь: «Это мой брат, революционер, с каторги вернулся, пострадал за правду-матушку». Стою. Молчу. Жду.
— Товарищи!.. — повторил Кузьма, и еще тише стало вокруг. — Не только кровавый царь и его распутная царица, не только их министры-собаки душили нас, морили голодом. — Брат подхватил правой рукой пустой рукав своей черной тужурки, поднял его над головой. — Где моя рука? Кто отгрыз ее? Он, жадный хозяин! А кто свел с ума моего деда? Он, хозяин! А кто убил моего отца? Он, хозяин! А кто измордовал мою сестру? Тоже он, его благородие, хозяин. И меня бы загнал на тот свет хозяин, если б не революция. И вас и ваших детей… — Кузьма шагнул к Ваське Ковалику, положил на его худенькое плечо руку: — Вот посмотрите на этого хлопчика. Родился в нужде, вскормлен нуждою, проклеймен с ног до головы нуждою. А чем лучше ваши дети, товарищи? Чем краше вы сами? Кто всех вас обездолил? Кто отнял у нас радость, смех, долголетие? Все они, проклятые, все они, кровососы-хозяева, их копейка и рубль, их плетка и каторга, их порядки и законы!..
Кузьма снова поднял над головой кулак.
— Товарищи, так неужели ж мы, рабочие люди, простим все это нашим палачам? Неужели не отомстим за наши погубленные жизни? Товарищи, братья, друзья, схватим за горло хозяев! На поганый сук «их благородиев»!..
Кузьма еще размахивал кулаком, еще губы его не обсохли от горячего призыва, а забойщик Коваль схватил остроребрый камень, бросился к кабаку, начал рубить его окна, глухо закрытые ставнями. Не было более страшного врага у Коваля, чем кабак и монополька. В этих заведениях отнимали у него почти все заработанные на шахте деньги. Тут унижали, растаптывали его труд, обменивая его на шкалик вонючей, сжигающей нутро жидкости. Тут сделали его детей нищими.
Бей в щепы, забойщик Коваль, громи, круши это проклятущее «Утешение», хозяйскую выдумку. Смотри, у тебя есть помощники! Вот твоя жена таранит дрючком железную дверь казенки. Рядом с ней неистово работают кузнец Бабченко и хромой стволовой Никита. Сорвав дверь с петель, они бросили ее себе под ноги и вломились в царскую монопольку. Зазвенели бутылки, горькая полилась ручьем, потоком, рекой, выхлестнулась на каменное крыльцо. Кто-то чиркнул спичкой — и вспыхнула синим спиртовым огнем николаевская утешительная жидкость, зачадила смрадом. Пожар перекинулся на ближайшие хозяйские хоромы — и утренней зарей запылали, весело затрещали гнезда богатеев.
Кузьма, без шапки, с подпаленной бородой, со счастливыми глазами, охрипший от гнева, метался вдоль огненной стены. Размахивал единственной рукой, призывал:
— Товарищи, теперь — на завод, на шахты, на акционеров! Выпустим им золотые кишки, вернем свое украденное добро.
И рядом с Кузьмой, не отставая от него ни на шаг, бежал быстроногий Васька Ковалик.
Тысячи людей хлынули вслед за Кузьмой и Васькой по широкой Главной улице, по первой линии, к заводу, к шахтам, к франко-бельгийской колонии.
Но тут из-за железной церковной ограды вылетела черная туча — казаки на разгоряченных, бешено вскинувших головы лошадях. Пьяно, ухарски гикают казаки, храпят и ржут кони, гремят подковами, высекая искры из каменистой мостовой. Молнией сверкают на теплом предвесеннем солнце обнаженные казачьи шашки.
Грудь к груди сошлись, столкнулись казаки и людская лавина — и не выдержали люди: остановились, раскололись, растеклись, частью полегли на землю, частью разбежались.
Кузьма первый взмахнул окровавленной рукой, первый упал. Тут же, рядом с ним, свалился и Васька Ковалик. Рухнул, как подсолнух, срубленный под корень. Упали оба и не поднялись.
И по телам Васьки и Кузьмы прогарцевали коваными копытами казачьи сотни.
Потом полегли Коваль, стволовой Никита, тетя Поля и еще и еще.
Я свернул с Главной в переулок и побежал. За спиной своей я слышал лошадиный храп и молодецкое гиканье казаков.