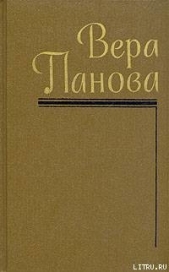Собрание сочинений (Том 2)
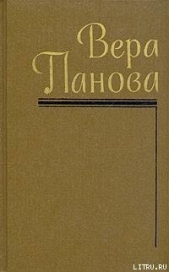
Собрание сочинений (Том 2) читать книгу онлайн
Во второй том собрания сочинений Веры Пановой вошли романы «Времена года», «Сентиментальный роман», роман-сказка «Который час?».
_______________
Составление и подготовка текста А. Нинова и Н. Озеровой-Пановой.
Примечания А. Нинова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Дорофея Николавна Куприянова — ваша маман? — спросил Цыцаркин. Встречались когда-то… на заре туманной юности… Но — разошлись, как в море корабли… Захаживайте, милости прошу. Заграничными пластинками интересуетесь?..
У него было вольно, никто не навязывал Геннадию никаких правил и взглядов. Не хочешь работать — не работай, твое личное дело. Хочешь пить пей. Выпивка всегда самая лучшая. Хочешь ухаживать за женщинами ухаживай. Женщины у Цыцаркина бывали разряженные, смешливые, необидчивые. Там играли в преферанс по крупной, небрежно записывая сотенные ремизы. Играть Геннадий не решался, но смотреть — нравилось…
Как-то зимой Геннадий зашел и рассказал, что у них в квартире выиграли по займу десять тысяч. Цыцаркин отвел Геннадия в сторону и сказал, что купил бы выигравшую облигацию. Геннадий разинул было рот, вроде Саши, но Цыцаркин сказал внушительно: «Получишь комиссию; только антр-ну, и меня там не называть, я зайду инкогнито». Геннадий сообразил, что дело выгодное, и решил осчастливить Зину и ее вислоухого мальчишку. Мальчишка смотрит на него как на трутня. Так вот на же тебе!..
Было ясно, что Цыцаркин занимается какими-то делами, за которые не гладят по головке. За глаза Геннадий презрительно называл его: «тип», но… вина у «типа» были хорошие, пластинки самые что ни на есть заграничные, а главное — «тип» относился к Геннадию с уважительным интересом, даже с любованием, даже хамить разрешал, пожалуйста. «Черт с ними, я не следователь. Кому надо его ловить, те пусть и ловят». Саша заявил в милицию о продаже облигации; Геннадий очень испугался, что в милиции записана его фамилия, и побежал к Цыцаркину. Тот отнесся к сообщению хладнокровно.
— Дурачок, — сказал он про Сашу. — И ты-то хорош. Я был в уверенности, что эти лишние пять тысяч тебе пойдут, что ж ты это так сплоховал?.. Ты, я вижу, тоже… идеалист.
— Я махинациями не занимаюсь, — свысока сказал Геннадий. — Что теперь делать будем?
— А ничего не будем делать. Подумаешь, мальчик заявил. Где факты? Где свидетели? Это же недоказуемо, как миф. Я той облигации в глаза не видал и у тебя не был сроду. Понадобится — полдюжины свидетелей приведу, что я в тот вечер был в кино. Гуляй, Геня, спокойно.
— А если найдут у вас облигацию?.. — спросил Геннадий.
— Ей-богу, — сказал Цыцаркин, — ты меня принимаешь за ребенка.
Все-таки с месяц Геннадий нервничал, что вот-вот придет повестка явиться в милицию. Потом стал нервничать, что повестку не несут: спросили бы, он бы заявил, что знать ничего не знает, и конец делу… Дальше страхи прошли, происшествие забылось.
А Цыцаркин стал с ним еще ласковей и, так сказать, родственней. Устроил его, как обещал, в автопарк на промтоварную базу и по временам осведомлялся с заботой:
— Денег не надо ли, Геня? Антр-ну, ведь дело молодое, того хочется, этого хочется… Говори прямо.
— Да нет, спасибо, — отвечал Геннадий.
Ему хотелось этого и того, но брать у Цыцаркина он боялся. Возьмешь, а там, чего доброго, угодишь в неприятности…
В описываемый вечер он провел у Цыцаркина часа два. Накануне, на работе, Цыцаркин заглянул к нему и сказал: «Заходи вечерком, приобрел пластинки Лещенко, [1] нечто из ряда вон…» Кроме Геннадия, были всего два гостя. Одного Геннадий и раньше видел — тот служит под начальством Цыцаркина на базе, на какой-то пустяковой должности. Его кличут Малюткой, потому что он маленький и узкоплечий, как восьмилетний мальчик; маленькое, без растительности, мертвенное лицо; вечно в грязной вышитой косоворотке, на голове старая, затасканная тюбетейка; кажется, под тюбетейкой тоже никакой растительности… Рука, которую он подал Геннадию, была неправдоподобно крошечная и холодная как лед. Голос слабый, писклявый…
— Изумрудов! — шумно выдохнул, знакомясь, второй мужчина, и от его движения по комнате прошла волна парикмахерских ароматов. Этот был щеголеватый, отлично выбритый, отлично откормленный, даже на взгляд весь мягкий, как тесто: мягко вываливался живот поверх кожаного пояса; мягко круглились под трикотажной рубашкой пухлые женские плечи; мягко шлепали одна о другую мокрые толстые губы; и глаза, очень большие и очень выпуклые, в частых, прямых, как у теленка, ресницах, казались двумя мягкими пузырями… Ему было жарко, он таял, как конфета, сидел раскисший, томный, а чуть двинется — по комнате разливалось густое одеколонное благоухание, и Малютка тонко чихал: ти! ти!
Геннадий выпил коньяку, послушал песни Лещенко — загрустил… Цыцаркин стал говорить, что как это, право, так распорядились, что единственный сын брошен на произвол судьбы, а чужая женщина — кому она нужна — оставлена в семье. И мягкий Изумрудов говорил что-то сочувственное, шлепая губами и редко, медленно помаргивая телячьими ресницами. Геннадий выпил еще рюмку и стал куражиться, заявляя, что плевал на всех, кто его не ценит, пусть они провалятся. Цыцаркин говорил: «Правильно!» — и гладил его по спине, как кошку. А Малютка ничего не говорил, но неотступно смотрел на Геннадия, все время Геннадий ловил этот тусклый, ничего не выражающий взгляд…
Пили, говорили… «Что, хорош у меня сынок?» — восхищенно спрашивал Цыцаркин.
— Хорош, — слабым голосом пискнул Малютка.
— Хорош! — томно улыбаясь, прошлепал губами Изумрудов.
— То-то!
…Как вышло, что он взял у Цыцаркина деньги? На что он их взял? Как будто на поездку на теплоходе? Или еще на что-нибудь?.. Боялся, боялся, а тут выпил и взял, да еще при этих рожах… О, дурак, ведь он и расписку выдал Цыцаркину!..
При воспоминании о расписке хмель соскочил с Геннадия; голова перестала кружиться, фонари приняли нормальный вид и стали на свои места. «Вернуть, вернуть! И пусть отдает расписку, старый навозный жук!..» Он оглянулся, свернул на бульвар, прошел мимо парочек, шептавшихся под вязами, опустился на свободную скамью и, достав деньги, пересчитал их…
«Вернуть, конечно… Но, собственно, обязательно ли сейчас возвращать? — мелькнула мыслишка. — Будет случай — верну, безусловно, какой может быть разговор… Почему непременно сейчас? Цыцаркин вон каким орлом держится, разве он так держался бы, если бы с ним было… неблагополучно…»
Он встал и в раздумье зашагал дальше.
«…Безусловно, он держался бы иначе… Я трушу неизвестно чего…»
«…На теплоходе проехаться — это, в общем, мысль…»
«…А может, в Крым? Не в санаторий, а так… зажиточным туристом…»
«…Не дадут отпуск, недавно поступил… Ну, пусть дают без сохранения содержания…»
«…И я вот что сделаю — я матери куплю хороший подарок…»
Он увидел улыбку матери и услышал ее голос. И обнаружил, что стоит на Разъезжей, неподалеку от родного дома. Вон куда забрел — машинально, по старой привычке…
С Нового года он не был тут, предпочитал заходить к матери в горисполком. Повидаешься, поговоришь и уйдешь. Меньше укоров, меньше неприятных слов, не испытываешь неловких встреч с Ларисой.
Как ни убежден человек в праве своего сердца любить и не любить, а есть неловкость в этих встречах.
«Да нет, Лариса ничего, — подумалось сейчас, в минуту сомнения и робости. — Славная, преданная… Самые близкие люди ссорятся… потом мирятся…»
Он войдет, они все за ужином. Он спросит: «Ну, как вы тут?» Они станут его ласкать, угощать. Мать от радости будет бегать, как девочка.
Засидятся, он соберется уходить, они погрустнеют, и мать скажет: «Да ночуй, Геня. Куда так поздно? Трамвая уже нет». Пожалуй, он останется, поживет с ними… под материнским крылом…
Он увидел дом издали. Окошки освещены, все дома, никто не спит — у нас всегда ложились поздно.
Как в прошлый свой приезд, он подошел и заглянул в окно. Никого. Значит, ужинают на веранде. Он толкнул калитку и вошел в темный двор. На веранде света нет. Невозможно знакомо щелкнула щеколда калитки. Темнота пахла цветами табака.
Ни голосов, ни шагов. Между белеющими впотьмах табачными звездами он прошел дорожкой к задней двери. Она была не заперта. Но только он ступил на веранду, как голос тетки Евфалии закричал из комнат: