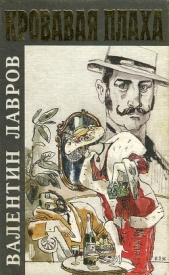Плаха

Плаха читать книгу онлайн
Самый верный путь к творческому бессмертию – это писать sub specie mortis – с точки зрения смерти, или, что в данном случае одно и то же, с точки зрения вечности. Именно с этой позиции пишет свою прозу Чингиз Айтматов, классик русской и киргизской литературы, лауреат самых престижных премий, хотя последнее обстоятельство в глазах читателя современного, сформировавшегося уже на руинах некогда великой империи, не является столь уж важным. Но несомненно важным оказалось другое: айтматовские притчи, в которых миф переплетен с реальностью, а национальные, исторические и культурные пласты перемешаны, – приобрели сегодня новое трагическое звучание, стали еще более пронзительными. Потому что пропасть, о которой предупреждал Айтматов несколько десятилетий назад, – теперь у нас под ногами. В том числе и об этом – роман Ч. Айтматова «Плаха» (1986).
«Ослепительная волчица Акбара и ее волк Ташчайнар, редкостной чистоты души Бостон, достойный воспоминаний о героях древнегреческих трагедии, и его антипод Базарбай, мятущийся Авдий, принявший крестные муки, и жертвенный младенец Кенджеш, охотники за наркотическим травяным зельем и благословенные певцы… – все предстали взору писателя и нашему взору в атмосфере высоких температур подлинного чувства».
А. Золотов
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– И все-таки в истории останешься ты, Понтий Пилат, – упрямо повторил тот, кто отправлялся на Лысую гору, за стены Иерусалима…
А та птица, то ли коршун, то ли орел, что кружила с утра над Иродовым дворцом, точно поджидаючи кого-то, наконец покинула свое место и медленно полетела в сторону, куда повели окруженного многочисленным конным конвоем, связанного, как опасного преступника, того, с кем так долго беседовал сам прокуратор всей Иудеи Понтий Пилат.
Прокуратор же все стоял на Арочной террасе, с удивлением и ужасом следя за странной птицей, летевшей вслед за тем, кого вели на Лысую гору…
– Что бы это значило? – прошептал прокуратор в недоумении и тревоге…
III
Тот летний дождь в степи, что так долго собирался, еще с вечера темнея и вызревая на горизонте в безмолвных всполохах молний и передвижении туч, начался лишь глубокой ночью. Его тяжелые капли, с силой барабанившие по сухой земле, хлынувшие затем потоками, ощутил на своем лице Авдий Калдистратов, приходя в сознание, – они были первым даром жизни.
Авдий лежал там же, в кювете подле железной дороги, куда скатился с откоса, когда его сбросили с поезда. Первое, что он подумал: «Где я? Кажется, дождь». Он застонал, хотел передвинуться и от дикой боли в боку и свинцовой тяжести в голове снова впал в беспамятство, но через некоторое время все-таки пришел в себя. Спасительный дождь возродил его к жизни. Дождь лил щедро и могуче, и вода, стекая с откоса, скапливалась в кювете, где лежал Авдий. Пробираясь к человеку, она вспучивалась пузырями, поднималась все выше к горлу, и это заставило Авдия превозмочь себя, попытаться действовать, чтобы выползти из этого опасного места. В первые минуты, пока тело преодолевало себя, привыкая к движению, это было особенно мучительно. Авдию с трудом верилось, что он остался жив. Ведь как жестоко его избивали в вагоне, на какой страшной скорости спихнули с поезда, но какая все это ерунда по сравнению с тем, что он жив, жив вопреки всему! Жив и может передвигаться, пусть ползком, слышит, и видит, и радуется этому спасительному дождю, что хлещет как из ведра, омывая его разбитое тело, остужая руки, ноги и гудящую горячую голову, и будет ползти, пока хватит сил, – ведь скоро рассветет, и настанет утро, и снова начнется жизнь… И тогда он придумает, что ему делать, надо лишь как-то встать на ноги…
Тем временем, прорезая дождь и тьму, один за другим с грохотом пронеслись несколько ночных поездов… И им он тоже был рад, все, что говорило о жизни, радовало его как никогда…
Авдий не хотел прятаться от дождя, даже если бы и мог, он понимал, что этот живительный дождь ему необходим. Только бы руки-ноги были целы, а уж ссадины, ушибы и даже жгучую боль в правом боку он готов был перенести безропотно… Ему все-таки удалось выползти, выкарабкаться на безопасное место, на небольшой пригорочек, и теперь он лежал под дождем, собираясь с духом, чтобы жить дальше…
Так возник он вновь из небытия и, возникнув, восстанавливал все то, что составляло суть его жизни, и дивился тому, какой удивительной ясности и объемности мысли осеняют его…
И он сказал Тому, которого уводили от Понтия Пилата на Лысую гору: «Учитель, я здесь! Что мне делать, чтобы вызволить Тебя, что мне делать, Господи? Как мне спасти Тебя? О как мне страшно за Тебя теперь, когда я вновь ожил!»
Исторический синхронизм – когда человек способен жить мысленно разом в нескольких временных воплощениях, разделенных порой столетиями и тысячелетиями, – присущ в той или иной мере каждому человеку, не лишенному воображения. Но тот, для кого события минувшего так же близки, как сиюминутная действительность, тот, кто переживает былое как свое кровное, как свою судьбу, тот мученик, тот трагическая личность, ибо, зная наперед, чем кончилась та или иная история, что повлекла она за собой, все предвидя, он лишь страдает, не в силах повлиять на ход событий, и приносит себя в жертву торжеству справедливости, которому никогда не состояться. И эта жажда утвердить правду минувшего – свята. Именно так рождаются идеи, так происходит духовное сращение новых поколений с предыдущими и предпредыдущими, и на том свет стоит, и жизненный опыт его постоянно увеличивается, приращивается – добро и зло передаются из поколения в поколение в нескончаемости памяти, в нескончаемости времени и пространства человеческого мира…
И потому было сказано: вчерашние не могут знать, что происходит сегодня, но сегодняшние знают, что происходило вчера, а завтра сегодняшние станут вчерашними…
И еще было сказано: сегодняшние живут во вчерашнем, но если завтрашние забудут о сегодняшнем, это беда для всех…
Авдий очень волновался, отчаивался, когда наступил тот день накануне первого дня пасхи, и душным предпраздничным вечером пытался разыскать в нижнем городе дом, где совершалась накануне тайная вечеря с учениками, где преломил Он хлеб, сказав, что это тело Его, и разлил вино, сказав, что это кровь Его, ведь уже тогда можно было предупредить о грозящей опасности, о предательстве Иуды Искариота, о необходимости срочно, безотлагательно покинуть этот страшный город, поспешить как можно скорее в путь. В поисках этого дома он метался в уходящих сумерках по кривым и запутанным улочкам, зачем-то вглядываясь в лица прохожих и проезжих, точно бы у него могли быть здесь знакомые, но ни среди поспешавших в тот час к семейным трапезам горожан, ни среди тех, кто еще заглядывал в лавки перед их закрытием, он не обнаружил никого, кому бы мог довериться. А многие прохожие так и вовсе не знали, кто это такой – Иисус Христос. Мало ли в городе было бродяг. Какой-то сердобольный горожанин стал его звать к себе на пасху. Но Авдий, поблагодарив, отказался. Он надеялся предупредить Учителя. От волнения, от света в окнах, от сильных запахов в воздухе, разносившихся от очагов с едой, от парной духоты, исходившей от обильно политых для прохлады дорог и дворов, у него разболелась голова. Его стало мутить. И тогда он кинулся за город, в Гефсиманию, надеясь застать Учителя с учениками еще там, в саду, в молитве и беседе. Но напрасно! И здесь в тот поздний час он никого не обнаружил. В саду было безлюдно, и под тем большим фикусовым деревом, где схватила Учителя вооруженная толпа, тоже никого уже не было. Ученики отсюда разбежались, как и предсказывал сам Учитель…
Луна плыла над дальним морем и над сушей, уже перевалило за полночь – близился роковой день, последствия которого не избудутся веками и долго еще и разно будут сказываться на истории человечества. Но в Гефсимании и прилегающих к ней всхолмлениях, поросших садами и виноградниками, в тот час было тихо, лишь птицы ночные пели по кустам, лягушки перекликались, и журчал, катился, переливаясь при луне, по каменистым древним стокам неспящий Кедрон с кедровых гор, делясь на ручьи и вновь собираясь в единый поток. Все пребывало на своих местах и существовало, как испокон века, – тихо и благостно было на земле в ту ночь, и только он, Авдий, не находил себе покоя оттого, что все свершалось, как должно было свершиться, и он не мог ничего ни остановить, ни предотвратить, хотя знал наперед, чем все кончится. Напрасно плакал он и взывал в отчаянии к Богу-Завтра. И примириться не мог со свершившимся спустя одна тысяча девятьсот пятьдесят лет от того, когда это произошло, и в поисках себя, перенесясь в минувшее бытие, мысленно вернулся в то начало, от которого через все круговращения времени протянулась нить и к его судьбе. Искал ответа, то устремляясь вспять на тысячелетия, то вновь возвращаясь в сегодняшнюю реальность под степной дождь, что лил на голову и плечи, то отрешаясь, то трезво взвешивая факты.
И позволял себе в благих порывах волюнтаризм по отношению к истории – концепцию Страшного суда над миром, сложившуюся гораздо позже, вкладывал в уста людей, живших задолго перед этим, – уж очень не терпелось Авдию, чтобы об этом сказано было самому Понтию Пилату, поскольку не исчезла тень Пилата, всесильного наместника империи, и по сей день. (Ведь есть же потенциальные пилаты и теперь!) И в таком опережении событий Авдий Каллистратов исходил из того, что изначальные законы мира действуют всегда, хоть и обнаруживают себя гораздо позже. Так и с идеей Страшного суда – давно уже ум человеческий терзала идея грядущего возмездия за все несправедливости, что творились на земле.