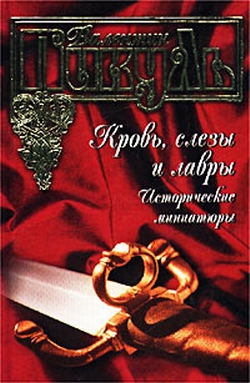Первая всероссийская
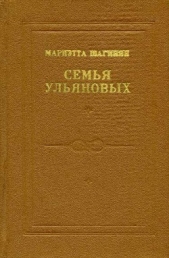
Первая всероссийская читать книгу онлайн
Тетралогия «Семья Ульяновых» удостоена Ленинской премии 1972 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Для чтений были приглашены — самый популярный в империи автор учебника арифметики, преподаватель второй петербургской военной гимназии, Евтушевский, и второй лектор, Бунаков, учитель гимназии из Воронежа. Илья Николаевич ни с тем, ни с другим лично не встречался. Открытие «Чтений» назначено было на 6 июля, и судя по проспекту — с 9 до 10 предполагалось выступление Бунакова по родному языку, а с 10 до 11 Евтушевского по арифметике. После этих двух часов, с одиннадцати слушатели были свободны до следующего дня.
— Но вот в чем дело, — говорил Ульянов Покровскому, не успевшему захватить и просмотреть проспекты, — составлены они как-то уж очень научно и отвлеченно, казенным языком и вот уж именно без всякой наглядности, — разве народные учители схватят последовательность в таких вот фразах?
И он почти наизусть перебрал параграфы из программы «Чтений» Евтушевского:
«Технологические основания начального обучения. Главнейшие положенья относительно преподавания арифметики в начальной школе… изучение чисел первого десятка. Изучение чисел от десяти до ста. Выводы значения четырех действий и случаев их приложения при решении задач первой сотни…» Ну, и так далее!
— Что же вы видите тут непонятного для народного учителя? Слышали, как этот волжанин, Новиков, ораторствует? Уровень достаточный, — он и не то поймет.
— Вы не схватили тут главного, Алексей Прокофьевич: нельзя крестьянским ребятишкам с самого начала давать голое число, — один, два… Надо непременно по матерьяльным предметам обучать: один стог сена, два окошка… Поверьте мне, приложение числа к предмету есть лучший способ освоения счета. А ведь тут о методике ни слова, тут сразу получается абстракция. И смотрите! Дойдут они до ста, освоят, как голые цифры складывать, вычитать, делить, множить, — а потом, пожалуйста, — «задачи с приложением числа к предметам». Хотя бы слово о наглядной методике! Вот по родному языку программа сразу начинается с «наглядного обучения»…
— На месте видно будет, — примирительно сказал Покровский. — Послушаем их живое слово. Все же ведь Евтушевский не кто-нибудь, — всероссийская величина. А вот насчет Бунакова — ничего не скажу, не знаю.
— Известнейший методист!
Они помолчали. Ульянов продолжал думать о Выставке. Не дальше, как завтра, — так близко, так скоро увидит он перед собой все, о чем читал чуть ли не каждый день, огромное множество вещей, собранных на коротком отрезке, — надо все успеть осмотреть, услышать, побывать не только в лекториях, но и в театрах… Надо купить нужные книги, набрать комплекты пособий, а дней, в сущности, совсем мало. И что-то делали там, в Москве, его питомцы? Он вынул разлинованную школьную тетрадь и занялся составлением плана: сколько, когда, где, в какой день недели, от какого до какого часа осмотреть в Москве…
А Покровский сидел и думал о другом: какой это, в сущности, большой ребенок, этот инспектор Ульянов, с его лысеющей головой и сединками в бороде. Вот он сидит и чего-то мусолит в тетради, захваченный Выставкой, словно сам из когорты семинаристов… И верит, верит, каждой бумажке верит, что сам себе навырезал из газет… А ему, Покровскому, хоть, кажется, он моложе Ульянова лет эдак на пять, так уже тошно жить и так гложет его сомненье, — во всем, ну хоть в пользе этой самой Выставки и для них, и для народного образованья…
— Давайте-ка на боковую, друг дорогой, — тяжеловато поднимаясь с лавки, сказал он инспектору.
В незавешенное окно вагона вместе с пылью и копотью лилось и лилось солнце. Час был еще ранний, а зной словно и не уменьшился с вечера, словно и не тронула за ночь роса побуревшие травы и свернутые трубочкой листья. Опять ставил невыспавшийся кондуктор свой огромный самовар, хотя вода в баке была мутная, пожелтелая и он боялся, что господа пассажиры взропщут. В умывальной непрерывно щелкала держалка от рукомойника, сплевывая вниз редкими струйками ту же мутную воду с песком. Учители обдавали себе пригоршней лицо, жмуря глаза, чтоб не попал песок, и шли назад к своим лавкам взлохмаченные, не совсем еще проснувшиеся. Ночью село в вагон много новой публики самого разного обличья, — от чиновничьих мундиров до мужицких поддевок. Казалось бы, эти новые, никому не известные люди, хоть на первых порах должны были внушить перезнакомившимся вчера пассажирам некоторую сдержанность. Но уж так устроен человек, что просто немыслимо ему, держа в руках стакан с чаем и закусывая баранкой, не испытывать удовольствия от добавочного вращения языка во рту. Можно молчать за обедом, молчать за ужином, даже и водку пить молча, — есть такие, во всем отчаявшиеся, во всем на свете связь разорвавшие горькие пьяницы, — но молча пить чай в обществе, молча откусывать кусочек сахару — попросту невозможно. Знаменитые русские беседы, уж наверное, велись за чаем. И что только не обсуждалось за вторым, за третьим стаканом, — а представьте на минуту, что нет этого обсужденья, нет беседы, а только сиди и пей чай молча. Представить такое нельзя, — никто чай пить не станет, — думал кондуктор, опытный человек, наглядевшийся на человеческое чаепитие.
В этот раз вкусная снедь, наполовину уже съеденная вчера, наполовину протухшая от жары, была заменена демократическими солеными огурцами, купленными у бабы на станции. Собственно, не солеными, а свежепросольными, как пишут в ресторанах, потому что, уступая капризу человеческому, в самый разгар лета бабы начали уже присаливать свежие, ароматные огурчики, еще недавно раскупавшиеся именно за свежесть свою. Присаливали с чесночком, с огромным, стеблистым веником укропа… А поезд, постояв, отходил от станционной водокачки, и снова шли выжженные травы и понурые деревья, и снова набирал он скорость.
— Таких сейчас и в Москве не достанешь, — сочно хрустя огурцом, говорил батюшка в дешевой ряске, тоже ехавший делегатом, как народный учитель, — малосольному огурцу большое требуется уменье. Тут переложишь или недоложишь — и пропал вкус. А главное — чтоб кадушкой не пахло.
— Удивительно вкусно, — сказал и Ульянов, улыбаясь своим мягким ртом.
На этот раз к ним присоединился пассажир, которого с вечера они не заметили. Он не был делегатом, но ехал на Выставку по собственному желанию, как многие люди с разных концов России. Тонкий и сутулый, с опущенными книзу плечами, безусый, усы были тщательно выбриты, — но с бородкой, которую он разглаживал двумя пальцами книзу от больших бледных губ. Он был бы похож на английского моряка в отставке, если б что-то — ну просто не попахивало от него классной комнатой и учительством. Золотая оправа дугообразных очков, быть может, или многократно начищенный, хотя и прилично сохраняемый и не лоснящийся на швах сюртук, который носил он, несмотря на жаркое летнее утро. Или — глаза, очень хорошие, внимательные, темные глаза под седыми бровями… Словом, что-то было в нем, неоспоримо выдававшее профессию. Он пришел из дальнего угла со своей кружкой, чтоб нацедить себе чаю из самовара, и собрался было назад идти, но сидевшие потеснились и выкроили ему местечко на лавке.
— Вы делегатом едете? — спросил его Покровский.
— Нет, не делегатом. Мы не в моде сейчас.
— «Мы»?
— Классики. Я преподаю латынь и греческий.
В вагоне воцарилось молчание. Публика, ехавшая на Выставку, была воспитана в духе самого острого недоброжелательства к классицизму в школе. Даже те, кто, как Илья Николаевич, кончали классическую гимназию, как-то подчинялись мысленно общему направлению русских умов и русской журналистики. Сказать «мы не в моде сейчас» мог только тот из классицистов, кто понимал всю силу и глубину общественного настроенья, действительно неблагоприятного для них. Но ведь «классика» не только царила в школе, царила в министерстве, была «на глазу», как восточные люди выражаются, — у самого министра просвещения, делавшего все, что можно для привилегированного положения классики в стране. Совсем недавно ей отдали министерским указом львиную долю часов в школах, отняв их от словесников и преподавателей наук естественных. Обижены были девять десятых учителей гимназий — математики, физики, географы, историки, словесники. А тут вдруг — жалобная нота в голосе, словно не их обидели, а классициста!