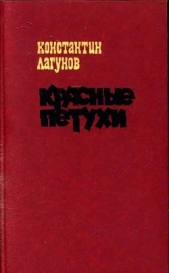Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая

Красные дни. Роман-хроника в 2-х книгах. Книга первая читать книгу онлайн
Роман освещает неизвестные ранее эпизоды гражданской войны на Дону, организацию красных кавалерийских частей, разгром белого движения. В центре романа — жизнь и судьба выдающегося красного командарма и общественного деятеля, первого Инспектора кавалерии — Ф.К.Миронова, боровшегося с «расказачиванием» и перегибами ревкомов но отношению к среднему казачеству. Роман построен на документальных материалах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Номер Крюкова был в бельэтаже, и хозяин оказался дома. Начались объятия и восторги, распаковка вещей, и, когда Коновалов водрузил на изящный, под красное дерево, боковой столик аляповато-громоздкую прутяную сапетку с торчащим из нее клоком волглого сена, Федор Дмитриевич вовсе растрогался:
— Ну, молодцы, ну, окаянные разбойнички с родимого Дона, что придумали, а? — радостно и с преувеличенной горячностью обнимал он Миронова и оробевшего урядника и все оглядывался в глубь большой комнаты-залы, где в креслах сидел осанистый, барственно-важный человек в костюме-тройке, с темным галстуком, с окладистой бородкой, как видно, его хороший знакомый и гость.
Сам Крюков — гимназический учитель, писатель и думский депутат, выслуживший уже чин статского советника, — был в обиходе простецким человеком, казаком до мозга костей и любил не только «приличное общество» и себя в нем, но пуще того — хуторской круг и карагот, старые донские песни на посиделках и в застолье, молодежное игрище. Все это пело и звенело в нем, переполняло душу, поэтому он способен был даже и в столичной компании разом сбросить с себя постоянную интеллигентную сдержанность, расслабить галстук и заходить, что называется, колесом, забросать грубоватыми хуторскими байками-анекдотами, станичным говорком, смешно смягчая окончания глаголов, потешая себя и окружающих. Он и теперь сверкал очками на всю комнату, задирал русую окладистую бородку «под Короленко», бросался от одного гостя к другому несообразно возрасту (Крюков был старше Миронова на два с половиной года, и стукнуло ему уже тридцать шесть лет), говорил с жаром, разбрызгивая радость:
— Вы посмотрите, дражайший Владимир Галактионович, что они нам привезли-то!
С кресел в дальнем углу поднялся крепкий человек с губернаторской осанкой. Глаза, впрочем, не выказывали никакого властолюбия, были, скорее, сочувственно-внимательны. Миронов определил в его лице нечто неуловимо знакомое, сжал крепко протянутую руку и поклонился.
— Короленко, — сказал гость Крюкова. И, не выпуская руки Миронова, с интересом осмотрел его с ног до головы, как бы оценивая на силу и сообразительность.
— Да, да! Вот перед вами, Владимир Галактионович, совсем новый, так сказать, тип казачьего офицера, прошу любить и жаловать! — рекомендовал с жаром Федор Дмитриевич своего земляка, разом смахнув напускное шаловливое ухарство и развязность. — Впрочем, идите-ка, земляки, пыль дорожную смойте! — проводил он казаков в ванную и захлопнул за ними дверь. — Да! Это тот самый подъесаул, которым вы, Владимир Галактионович, интересовались... И кстати, Миронов — не единственный ныне офицер из наших, протестующий открыто и прямо против карательных мер правительства! — Крюков спешил, как видно, закончить начатый ранее разговор, убедить в чем-то Короленко: — Уроки, как говорят, не проходят бесследно. Недавно в Вильно восстала сотня 3-го Ермака Тимофеевича полка. Вся целиком арестована и отдана под суд за отказ чинить расправу над народом... В Вахмуте хорунжий Дементьев со своей командой пошел под суд за присоединение к рабочей забастовке! 8 октябре прошлого года из Воронежской губернии ушли домой «по староказачьей традиции», обсудив на кругу, сотни 3-го сводного и 2-й Лабинский из Гурии, а Урупский Кубанский полк вообще учинил вооруженный бунт! Да. — Передохнул, внимательно следя за выражением лица Короленко, и дополнил: — А в Юзовке что было?! Когда наши казачки отказались стрелять по манифестантам и их, разумеется, определили за решетку, шахтеры и рабочие с заводов, побольше трех тысяч, двинулись освобождать казаков из тюрьмы! Долг, так сказать, платежом красен! Ну о том, что в Ростове и Москве было примерно то же, вы знаете... Но — верх всему — поступок сотника Иловайского, посланного на усмирение крестьян. Сотня его, только что из Маньчжурии, перестреляла полицейских за попытку стрелять по безоружным мужикам. А Иловайский, заметьте, казачий дворянин, потомок былых войсковых атаманов!
Миронов стоял в полуоткрытой двери в белой сорочке с закатанными рукавами, вытирал жилистые, загорелые руки махровым полотенцем и с открытой насмешливостью слушал друга. Крюков заметил его выразительный прищур, махнул рукой — достаточно, мол, на эту тему! — и засмеялся:
— Ну, многоглаголенье, как говорил еще иеромонах у Пушкина, не есть души спасение! Вы-то с чем хорошим прибыли? Приговор станицы, письма с хуторов — вот что мне надо к завтрашнему выступлению, братцы! Есть?
— Все, что надо, привезли, но — после, — сказал Миронов. — Урядник, выкладывай гостинцы с Дона!
Он отнял у Коновалова сапетку, выдернул из нее пучок свежего, сильно пахнущего влажным лугом сена, стал выставлять на лакированный столик одну за другой черные бутылки с серебряной оберткой. Бутылки были облеплены волглыми травинками, а на затейливых вензелях наклеек золотились оттиски медалей самого высшего достоинства.
— Цимлянское игристое? — воодушевился мало пьющий Федор Дмитриевич. — По какому же случаю?
Миронов объяснил, что тащить за собою в Питер винные бутылки не очень разумно, легче при нужде купить бы на месте, но Павел Агеев как раз выдавал замуж свою двоюродную сестру, ну и, разумеется, не забыл своего покровителя и наставника Крюкова, прислал гостинец е просьбой заочно поздравить молодых...
Федор Дмитриевич удовлетворенно кивнул и поднес клок сена к лицу, с молитвенным чувством вдохнул сильный луговой аромат, глядя в сторону Короленко и как бы желая передать и ему свое настроение.
— Вы, ваше высокоблагородие... не то принялись нюхать, сказал со сдержанностью в голосе урядник Коновалов. — Если уж захотелось степь нашу вспомнить, то вот… — Он отвернул борт синего мундира и достал из потайного кармана на груди пучок сухой, невзрачной травки. — Вот. Возьмите, чебор!
Крюков порывисто обнял Коновалова и расцеловал в обе щеки, а затем, завладев пучком чебора, направился в угол к старшему гостю:
— И в самом доле — чебор! Ах, окаянные, да что же они со мной делают, ведь душу — вон! Вы оцените, Владимир Галактионович, оцените!
— Да? У нас, в Малороссии, чебрец, — сказал Короленко, добродушно усмехаясь в бороду. — Впрочем, дайте-ка, в нем, черт его знает, и в самом деле заключена какая-то первородная сила, чудный приворотный запах. Не передать словами даже, сколько аромата, полынной горечи и степной силы!
— Кто надоумил? — Крюков ел глазами урядника Коновалова.
— Да это уж близ Себрякова, — сказал урядник. — Стали спущаться к слободе, я на Веберовскую мельницу гляжу больно уж высоченная громада, выше церкви! — а их благородие толкает с брички: сорви, говорит, чеборка на дорогу! А там, по скату, его сколько хошь!
— Спасибо, братцы. Это же — емшан! Погодите, сейчас вспомню, как там у Майкова... — Крюков смотрел на Короленко, который тоже с жадностью вдыхал запах немудреной степной травки-ползунка, а сам начал тихо, по памяти декламировать стихи. Он, гимназический учитель, да еще степняк по рождению, знал, конечно, эти строчки и мог читать наизусть:
Степной травы пучок сухой.
Он и сухой благоухает!
И разом степи надо мной
Все обаянье воскрешает...
Это была поэма о власти человеческой памяти, зове родной земли, верности Отчизне... Федор Дмитриевич сначала читал невнятно, как бы лишь для себя, повторяя знакомое и привычное, самый сказ. Но по мере того как углублялся и ширился стих, как кругами на воде расходилась непростая мысль и прояснялось настроение, голос чтеца стал сам собою крепнуть, выдавая волнение:
Скажи ему, чтоб бросил все,
Что умер враг, чтоб спали цепи,
Чтоб шел в наследие свое,
В благоухающие степи!
На глазах Крюкова заблестели слезы. Было много недосказанного в этих стихах, того, что связывало всех присутствующих здесь в крепкий и единый круг, ради чего они и собрались вместе. Даже урядник Коновалов, никогда не читавший других книг, кроме духовных, понимал, что тут были не стихи в их общепринятом смысле, а тайная клятва: