Проданные годы. Роман в новеллах
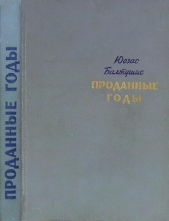
Проданные годы. Роман в новеллах читать книгу онлайн
«Я хорошо еще с детства знал героев романа „Проданные годы“. Однако, приступая к его написанию, я понял: мне надо увидеть их снова, увидеть реальных, живых, во плоти и крови. Увидеть, какими они стали теперь, пройдя долгий жизненный путь со своим народом.
В отдаленном районе республики разыскал я своего Ализаса, который в „Проданных годах“ сошел с ума от кулацких побоев. Не физическая боль сломила тогда его — что значит физическая боль для пастушка, детство которого было столь безрадостным! Ализас лишился рассудка из-за того, что оскорбили его человеческое достоинство, унизили его в глазах людей и прежде всего в глазах любимой девушки Аквнли. И вот я его увидел. Крепкая крестьянская натура взяла свое, он здоров теперь, нынешняя жизнь вернула ему человеческое достоинство, веру в себя. Работает Ализас в колхозе, считается лучшим столяром, это один из самых уважаемых людей в округе. Нашел я и Аквилю, тоже в колхозе, только в другом районе республики. Все ее дети получили высшее образование, стали врачами, инженерами, агрономами. В день ее рождения они собираются в родном доме и низко склоняют голову перед ней, некогда забитой батрачкой, пасшей кулацкий скот. В другом районе нашел я Стяпукаса, работает он бригадиром и поет совсем не ту песню, что певал в годы моего детства. Отыскал я и батрака Пятраса, несшего свет революции в темную литовскую деревню. Теперь он председатель одного из лучших колхозов республики. Герой Социалистического Труда… Обнялись мы с ним, расцеловались, вспомнили детство, смахнули слезу. И тут я внезапно понял: можно приниматься за роман. Уже можно. Теперь получится».
Ю. Балтушис
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Долго он еще ходил, искоса поглядывая на мать и, по-видимому, дожидаясь новых возражений. Но, не дождавшись, подошел и сел возле нее.
— Сказал соседям, чтобы к нам посылали, — проговорил он каким-то изменившимся голосом. — Доброго человека встретим — и отпустим. Разве мы одни так? — Помолчал и сказал про себя: — Не мы одни.
Мать нагнулась, чтобы поправить спутавшуюся нитку, которая застряла в зубцах крыла. Поправила, но уже не выпрямилась и дальше пряла нагнувшись, внимательно следя за нескончаемо бегущей нитью.
Утро занялось пасмурное, небо казалось как им-то неумытым, невеселым, но зато мы сразу почуяли: нет больше мороза. Покрытые толстой ледяной коркой окна погасли и помутнели, начали слезиться. Мать привешивала к подоконникам толстые бутылки, спускала в них шерстяные нитки — чтобы вода стекала, а мы все трое ринулись во двор взглянуть на перемены. Вот это да! Дворик, огород, поля — все было так занесено снегом, кажется, и за три лета не растает. Вокруг буренкиных палат сугробы намело выше конька. Утопала в снегах вся усадьба Тякониса с неподвижными, оголенными тополями, а у слив и вишен вдоль изгороди одни верхушки высовывались из-под снега. Только и осталось незаваленного места, что у самых стен нашей избы, где ветер продул себе ходы, да прорытая отцом тропинка к колодцу.
— Оттепель, оттепель! — крикнул Лявукас, хватая обеими руками рыхлый снег.
— Давайте лепить снежную бабу! — предложила сестра.
— Ребятишки, а ребятишки! — услышали мы голос матери. — В школу пора! После наиграетесь!..
Наша школа не где-нибудь, а в доме того же благодетеля Тякониса. Надо сказать, очень хорошая школа. Здесь для науки отведена вся кладовая, как твердил сам Тяконис, или же, как говорил мой отец, плохонькая ее половина. Половина так половина, зато здесь есть перегородка, а за перегородкой живет сама наша учительница, госпожа Даубайте. Места всем хватает. Места в школе столько, что целых три стола стоят, а вокруг каждого стола еще четыре скамеечки, на них мы сидим, раскрыв книги и тетради. Раньше здесь был даже пол. Но во время беготни ученики очень стучали по нему деревянными башмаками. Поэтому Тяконис не вытерпел, выломал половицы и сложил их в сарае, а в кладовой так утрамбовал землю, что хоть яйца катай на пасху! Вот какая это школа, в которую мы собирались после многих проведенных дома вьюжных дней.
От шума, крика, хохота, казалось, развалится весь дом Тякониса. Но учительница никого не ругала, как раньше, когда мы ходили в школу каждый день. Она только улыбалась, стоя у порога, и расспрашивала у каждого приходящего о здоровье, о морозе и много еще о чем, а Юргиса спросила, чего он такой скучный, не жениться ли задумал?
— Пятраса продали, — пробурчал Юргис и юркнул внутрь.
Учительница вошла вслед за нами, оглядела всех, улыбнулась невеселой улыбкой и сказала:
— Ну, дети, начнем наши занятия.
Она прохаживалась между столами и читала из книги, а мы, навострив уши, ловили каждое ее слово и спешили записать. Чисто, правильно записать, чтобы вечером отец не говорил, что по нашим тетрадям опять скакали жеребцы и что из его детей, видать, ничего путного не выйдет.
Но урок продолжался недолго. Скрипнула дверь, из-за нее показался Лявукас. На плечи он накинул большущий отцовский кожух, вздел на босые ноги мамины деревянные башмаки, на голову напялил какую-то варежку… Все так и прыснули со смеху, а учительница сказала:
— Вот и новый ученик на место Пятраса. Ну, поди поближе, поди, не бойся.
Но Лявукас только водил вокруг широко раскрытыми глазами, пока не увидел меня, а потом приковылял ко мне и, не переводя дух, зачастил:
— Иди домой… поскорее! Тятя велел, и мама… Сейчас же иди!
— Что случилось?
— Приехал…
Я понял. Посмотрел на учительницу. Она кивнула головой. Все кругом молчали.
Учительница вышла со мной в сени. Крепко сжала мне плечо.
— Приду проводить, — сказала тихо. — Ты не робей!
А дома, заняв почти половину избенки, сидел на лавке незнакомый человек. Из-под широкого нагольного тулупа высовывались огромные сапоги из сыромятной кожи. Тулуп подпоясан, воротник поднят, только углы его отогнуты, чтобы не мешали курить. Увидев меня, он живо вынул изо рта трубку, оглядел с головы до пят, словно взвешивая каждый сустав. Повернулся к отцу:
— Этот?
— Он самый…
Приезжий откашлялся, сплюнул. По обеим сторонам его носа обозначились две кислые морщины.
— И много запрашиваете?
— Чего там запрашивать, — ответила мать. — Такого молодца вырастили…
— Червяк, а не молодец, и по глазам видать — робок. Такому ни хворосту нарубить, ни скотину обрядить.
Опять закусил трубку, затянулся раз, другой.
— Значит, так: две меры картошки вам посадить…
— Раньше говорили — четыре, — перебил его отец.
— Говорил, пока пастушонка не увидел. По товару и цена. Первогодки четырех мер не берут. Таким манером, картошки две меры посадить, полцентнера ржи и десять литов [6]. Ну, как?
— Литов пусть уж пятнадцать, — вставила мать.
Приезжий долго чмокал трубкой, думал. Отец и мать безмолвствовали, ждали. Я тоже ждал в дверях.
— Берите полпуда овса, — предложил вдруг приезжий.
— Что в нем, в овсе, — задвигался отец. — Ость, словно кость.
— А чем не зерно овес? В Германии овсяной крупой рожениц кормят. Говорят, очень пользительно. Сам в газете читал. Из овса и каша, и кисель, и прочее другое… А вам все плохо да плохо.
— Шерсти бы с фунт прибавил, — опять вставила мать. — Вконец обносились все…
— Шерсти не могу, не разводятся у меня овцы: которую волк утащит, которая зашелудивеет. А тут еще батрачка несколько фунтов выклянчила, батраку придется тройку из хорошего сукна сшить. Где же тут хватит? Давайте сладимся на овсе и поедем.
— Что мне делать с овсом? — спорил отец. — Отсыпали бы с гарнец [7] пшеницы иль ячменя… Другой бы разговор.
— Ячменя я не сею, земля у меня в низине, а пшеница — опора хозяйства. Ну, как?
— Какое стадо пасти мальчишке?
— Чего там стадо! Одним кнутом три раза обведешь, и еще конец с кисточкой останется.
— Однако ж?
— Есть там семь дойных коров, еще четыре годовалые телки, один-разъединый бык, да и троечка телят будет. Ну, это уж под осень. Вот, значит, и все богатство.
— Овец не помянули. Или нет овец?
— Почитай что и нет. Говорил же — не разводятся они у меня. Десятка три если наберется, и то слава богу.
В избе стало тихо. Отец шепотом подсчитывал, сколько будет голов в моем стаде. Приезжий стал искать глазами шапку. Отец тревожно повернулся к матери. В глазах ее блеснули слезы. Она кивнула, отвернулась.
— Будь по-вашему…
— Давно бы так! — оживился гость. — Будет хорош, еще пучок льна добавлю.
Натруженными руками мать надела на меня чистую холщовую рубаху, пришила к штанам оторвавшуюся пуговицу.
— Когда получишь хозяйскую одежу, эту сними, сверни, перевяжи веревочкой. Будет в чем вернуться осенью.
— Перевяжу, — ответил я ей, а сам все оглядывался на окна: много ли народу собралось меня провожать? Но во дворе было пусто. Видно, еще никто не знал.
Мать отыскала мягкие онучи из старого холста. Нагнулась, обмотала мне ноги.
— Смотри, сынок, всех там слушайся. Будь меньше макового зернышка, никому не перечь. Щей ли мало достанется или кто подзатыльник даст — ты помалкивай… Помалкивай перед всеми. Когда очень уж невесело станет, поплачь в одиночку где-нибудь в уголке хлева, и ладно. Только чтобы никто не видел — вконец засмеют. Поплачешь, и опять молчок, опять гляди, как бы кормильцу угодить, послушаться его…
— Кончите вы там? — крикнул отец, потеряв терпение. — Человек ведь ждет!
Крикнул он очень громко, но вовсе не так сердито, как, бывало, кричал на меня. Да и глядел не на меня, а куда-то мимо. Лявукас подобрался поближе, протянул свое стеклышко. Запыхавшись, прибежала из школы сестра… И теперь я почувствовал, что глаза у меня наливаются слезами, чего доброго, расплачусь, как баба. И щетки не положил на полку, ничего… Но тут откуда ни возьмись в избе появилась наша учительница. Вся занесенная снегом, в руках небольшой бумажный сверток.

























