«Свет ты наш, Верховина»
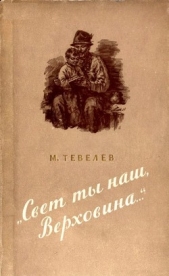
«Свет ты наш, Верховина» читать книгу онлайн
«Свет ты наш, Верховина…» — роман русского писателя и сценариста Матвея Григорьевича Тевелева (1908–1962). По роману в 1957 году был поставлен один из известных спектаклей Закарпатского театра.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
22
Шумит проливной дождь. Сквозь окна видно, как в его струях дробится свет уличного фонаря.
Чонка в плаще с поднятым воротником, мрачный, расстроенный, сидит у меня во флигеле, не выпуская из рук мокрого полузакрытого зонтика. Вода, стекая с зонтика, образовала лужу, но мы не обращаем на нее внимания.
— Каков мерзавец! — повторяет Чонка. — Ай, ай, ай, какой мерзавец! Тут крупно заплачено. Он сам ее и написал, чтобы мне с этого места не сойти!
Я почти не слышу, что говорит Чонка. Мысли мои путаются.
На столе валяется смятая газета с напечатанной статьей. Но статья это не моя. Она обо мне. В грязном, бульварном фельетоне называли меня шарлатаном и неучем, а мою записку — бессмысленной чепухой, при помощи которой будто бы я рассчитывал сделать карьеру.
Я был совершенно убит, когда прочитал этот фельетон, под которым стояли ничего не говорящие инициалы «А. Б.».
— Это дело Лещецкого, — произносит после горестного раздумья Чонка. — Простая коммерция: Казарик понес твою статью Лещецкому, чтобы выудить побольше денежек, чем он от нас получил. А Лещецкий купил и твою статью и самого пана Казарика. Вот как это все делается!.. Но ты не отчаивайся, Иване, слышишь, не отчаивайся, что поделаешь! Мы еще, может быть, что-нибудь придумаем. Хочешь, набьем и Казарику и Лещецкому морду? Ну, не молчи ты, ради бога, Иване!
— Да, да, что-нибудь придумаем, — машинально повторяю я.
Чонка встает и делает несколько шагов по комнате, морща лоб.
— И все-таки, Иване, не придавай, пожалуйста, дорогой, всему этому такого большого значения. Забудется, вот увидишь, забудется!
Он еще долго тяжело вздыхает и чертыхается, открывая и закрывая зонтик.
Когда Чонка ушел, я почувствовал, что не в силах оставаться один в комнате. Накинув плащ, без шляпы, я вышел под дождь, пересек двор и очутился на пустынной улице.
Она тянулась передо мной бесконечным черным коридором. Огни у подъездов домов горели тускло и сиротливо, точно их случайно забыли здесь среди сырого мрака.
Дождь, смочивший мою непокрытую голову, и порывы холодного ветра освежили меня. Оцепеневшая было мысль робко, с перебоями, будто долго стоявшие и вновь заведенные часы, начала свой прерванный бег… «Правду нелегко слушать…» Кто это сказал?.. Куртинец… И передо мною всплыло его лицо и сизое облачко табачного дыма под усами, словно очень далекое воспоминание… «Правду нелегко слушать». Вот она, правда…
Я свернул в переулок и оказался перед светящейся дверью ночного буфета. Машинально толкнул ее и вошел в задымленное помещение, освещенное зеленоватым светом газового рожка. Поздние посетители пили вино у буфетной стойки. Два тощих цыгана, закатывая глаза и отбивая такт ногами, пиликали на скрипках.
Я подошел к стойке.
— Какого пан прикажет? — спросил хозяин, выжидающе склонив набок голову.
— Все равно, — сказал я.
Хозяин взял с полки стакан и стал наполнять его розоватым вином.
Посетители были пьяны и разговаривали громко, словно глухие.
Я выпил вино, не переводя дыхания, как пьют при сильной жажде воду.
— Лучшее в Ужгороде! — щелкнул языком хозяин. — Не правда ли?
Я промолчал и знаком попросил налить второй. Был налит второй и третий; я пил вино залпами и не пьянел, а испытывал только знобящую теплоту во всем теле.
— Еще? — вопрошающе, с бутылкой в руке, глядел на меня буфетчик.
— Да, еще, — кивал я.
И розоватая жидкость, вся в искорках, булькая, заполняла стакан. А я не пьянел. В голове становилось легко, просторно, и каждое слово «еще», которое я произносил, звучало вызывающе громко среди пьяного смутного говора посетителей. Один из них, стоявший ко мне спиной, неожиданно обернулся. Мутные глаза его уставились на меня.
— Пане, — произнес он, с трудом выталкивая заплетающимся языком слова, — я хочу выпить с вами за то, чтобы все на свете шло к черту, вот за что… Все к черту!.. — и, мгновенно забыв обо мне, уронил голову на стойку.
— Лучшие экипажи в городе! — шепнул мне хозяин буфета, кивая на охмелевшего посетителя. — А жена сбежала с кошицким вояжером, не слыхали? Об этом говорит весь город!.. Еще стаканчик?
— Нет, — покачал я головой и стал расплачиваться.
Очутившись на улице, я снова почувствовал озноб.
Лицо мое горело, глазам было больно глядеть даже в темноте. Я шел в каком-то полузабытьи. Минутами сознание, как от толчка, начинало работать лихорадочно и ясно. Да, Куртинец прав, прав во всем, что он говорил. То, чего я добивался и что мечтал осуществить, было не только не нужно пану губернатору, Лещецкому, всем этим депутатам и сенаторам, не только не нужно, но и враждебно им. И Горуля понимал это. Сознание опять мутилось, и все исчезало, кроме болезненного озноба, трясшего меня.
Я не помню, как очутился у дома Лембея, как отпер калитку и вошел во флигель. Я помню только, как взял со стола зеленую папку и спокойным, размеренным движением начал вырывать из нее страницы, одну за другой. Затем так же спокойно я сунул весь этот бумажный ворох в печку и поджег его.
Синее пламя лениво поползло по одной из страниц. Смятый лист расправился, как живой, и я успел заметить, что это была первая страница вводной части записки, а когда лист расправился еще больше, мелькнула строка из сказки о ключе Миколы: «… А земля все стоит и стоит запертая». Но вот синеватый огонь лизнул эту строку и обуглил ее. Я не ощущал ни сожаления, ни раскаяния; полное безразличие овладело мною. Вдруг весь ворох занялся ярким золотистым огнем, клочки черного пепла выпали из печки, — и больше я уже ничего не помнил.
23
Десять дней… Их следует считать вычеркнутыми из моей жизни. Единственно, что осталось в памяти, — это короткие проблески сознания, когда сквозь мутную пелену забытья я еле различал очертания лиц склонившихся надо мной людей и слышал звуки их голосов. Но стоило чуть-чуть напрячь силы, чтобы пошевельнуться или что-то произнести, как лица таяли, звуки сливались в одну дребезжащую ноту, и я вновь впадал в беспамятство.
Десять дней, теперь они остались позади. Мои глаза открыты, и надо мною, склонившись, стоит Ружана. Лицо девушки осунулось, и я ясно вижу, как дрожат слезинки на ее ресницах.
— Почему вы плачете? — спрашиваю я, и собственный мой голос кажется мне чужим и далеким.
— Не знаю, пане Белинец… Теперь будет все хорошо…
Жизнь со всеми ее ощущениями, памятью и желаниями осторожно, будто пробуя, выдержу ли я весь этот груз, возвращается ко мне. Я уже сознаю, где я и что со мной произошло; я вижу, что на улице день, светит солнце и ветер качает под окном голые ветки дерева. Вижу склянки с аптечными сигнатурками на столике возле кровати и чувствую, как Ружана подносит к моим запекшимся губам ложечку с лимонной водой.
— Выпейте, — просит она.
Я пью покорно, но неловко, по капле.
— Совсем разучился.
На лице Ружаны выражение материнской заботы, от которой на душе делается легко и спокойно.
— Какой сегодня день? — спрашиваю я.
Ружана отвечает.
— Я был очень болен?
— Да, вы были очень больны, пане Белинец, но теперь все прошло. Прошу вас, ни о чем не думайте и не разговаривайте много: это вредно… Я только об одном хочу вам сказать: когда вы были больны, вами интересовался пан Матлах. Он говорил, что вы с ним из одного села, и просил передать, что, как только представится возможность, ему нужно встретиться с вами.
— Матлах? — переспрашиваю я. — Да, мы с ним односельчане… Что ему надо?
— Ну вот, вы уже и волнуетесь, — укоризненно говорит Ружана. — Знала бы, ничего не сказала.
— Нет, я не волнуюсь… Матлах?.. Он не говорил, зачем я ему нужен?
— Нет. Он приезжал в Ужгород к врачам. У него ноги больны, не может передвигаться… Скоро он снова приедет. Все! Больше и не вздумайте расспрашивать!
Я ощущаю такую усталость, что глаза мои смыкаются, и я засыпаю…
Возвращаясь из банка, Чонка сразу забегает ко мне во флигелек.


























