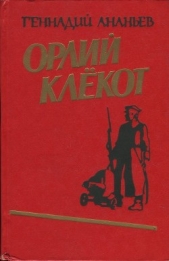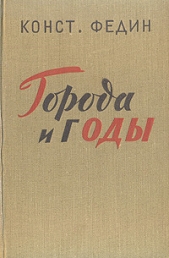Города и годы. Братья
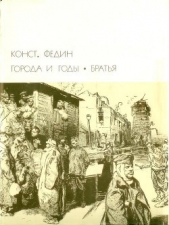
Города и годы. Братья читать книгу онлайн
Два первых романа Константина Федина — «Города и годы», «Братья» увидели свет в 20-е годы XX столетия, в них запечатлена эпоха великих социальных катаклизмов — первая мировая война, Октябрьская революция, война гражданская, трудное, мучительное и радостное рождение нового общества, новых отношений, новых людей.
Вступительная статья М. Кузнецова, примечания А. Старкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я здесь выросла, — сказала Мари. — Вон на том холме нависла сосна, точно гриб. Это первое дерево, на которое я вскарабкалась. За этим грибом — замок Шенау. Видите, черные крыши? Направо шоссе, там граница.
— Граница? — переспросил он. — Так близко?
Мари прищурилась на него:
— Почувствовали что-то родное?
— Там чехи.
— О да, сплошные чехи!
— Без этого нельзя?
Она двинулась было к нему, но тотчас остановилась, точно принудила себя не расслышать его слов. Потом внезапно звонко вскрикнула:
— Ну, наверх, скорей! — и, придерживаясь за встречные стволы, легко и цепко, как козуля, взяла подъем.
На прибранной площадке вершины стояли чинным рядом приземистые длинные санки. Суровый, громоздкий, как каменная глыба, сторож медленно выкатился из тесовой будки и осмотрел гостей. Час был неурочный, никого, кроме сторожа, на горе не было. Укатанная, расчищенная дорога уносилась к повороту крутой скобкой. По сторонам она была защищена снеговыми барьерами
И опять звонко, раскалывая застылый возду, Мари крикнула:
— Довольно раздумывать! Едем!
Она выбрала сани, ногой подкатила их к спуску, села верхом и ухватилась за кольца загнутых на передок полозьев.
Ее обступал воздух, которым она дышала в детстве. Накрошенные и наваленные в беспорядке скалы, как ломаная мебель; кряжистые сухокорые деревья, каждый сучок которых казался старым приятелем; внизу исковерканная шашечница дорог и просек. Всякий камень на этих горах корчил Мари рожи, и она помнила его прозвища, знала его секреты. Как жалко, что подле не было сообщников ее проделок — широкогрудых, большеглазых деревенских ребят! Как хорошо было бы покомандовать ими, прикрикнуть и распорядиться! Где они теперь, милые увальни?..
Мари быстро оглядела своего спутника.
— Рассчитывайтесь со сторожем и садитесь. Скорей… Садитесь ближе ко мне. Вытяните ноги вперед. Вот так. Охватите меня руками. Как следует. Туже, еще туже, а не то вывалитесь. Править буду я. Поехали!
И вот толчок, еще толчок, вот ускоряющееся плавное скольжение, вот быстрый бег — и вот перед самым лицом, над головою, оледенелый снежный барьер поворота, который мгновенье назад казался страшно далеким. Барьер валится на голову, колючая белая пыль залепляет глаза, бьет откуда-то из-под земли неудержимым фонтаном и вдруг обрывается; и ровный, как отточенная сталь, ветер звенит по лицу, устремляясь вверх, в гору, которая взвивается к небу. Поворот уже давно пройден, сани уже давно оторвались от земли, прямой спуск — секунду назад бесконечный — уже налетел на новый поворот, и снежные барьеры навалились на голову.
— Держитесь! — кричит Мари и слышит, как в ее спину вросло отвердевшее широкое тело и в грудь — ледяное кольцо скрещенных рук. И еще — точно с далекой вершины, сквозь холод и свист снежной пыли, наперекор и навстречу режущей стали ветра — в самое ухо ее чуть теплый вливается шепот:
— Дер-жи-тесь са-ми!
И тогда она видит, как сбоку, от сильной мужской ноги, бороздящей дорогу, клубится белый вихрь — выше и буйнее каскада, который поднимает ее нога… Ах, все равно — пусть думает, что он правит! Вниз, вниз, под гору, в пропасть!..
Потом у отлогого подножья Лауше они отряхиваются, очищают волосы, воротники, уши от тающей, слипшейся пыли, смеются.
Вероятно, и здесь они о чем-то говорили, как говорили в крошечной комнате какой-то гостиницы, где их угощали пахучим грогом и веселым очажным огнем. Но Мари не запомнила ни слова из этих разговоров. Впрочем, одно слово — смешное, непривычное — осталось в памяти. Расставаясь со своим компаньоном, вдалеке от станции, она спросила:
— Как вас зовут?
— Андрей Старцов.
— Стар-цов? Как это пишется?..
Потеплел ветер, и отогрелись деревья. В такую пору приоткрытое окно не облегчит дыханья. И если не двигаться, не лететь постоянно с силой камня, сорвавшегося с горы, — густые мартовские дни сдавят горло, задушат.
Скука пришла вместе с теплым ветром, неожиданно, в разгар деятельности, и с каждым часом становилась нестерпимей. И потому что Мари не догадывалась о причине скуки, — может быть, просто со скуки она написала Андрею, что хочет увидеть его.
Он ждал ее в парке Семи Прудов.
В оттепель парк загрязнялся, трамвайные вагоны подходили к нему пустыми, обезлюденные аллеи однообразно чернели. Но от таянья снега и невнятного, боязливого шороха каких-то существ над землею бродили запахи оживления, и вдыхать их было так же томительно, как глядеть с высоты в обрыв.
Андрей стоял на прямоугольном стыке двух аллей. По одной из них должна была прийти Мари. Это была Бисмаркова аллея — из четырех рядов лип, подстриженных перевернутыми кофейными чашками. Ровной, точно кегельбан, дорогой она смыкала город с парком. Другая аллея опоясывала парк кривой, и поворот ее виднелся шагах в полусотне оттуда, где стоял Андрей.
Он увидел Мари в условленный час. Она шла быстро, держась прямой линейки стволов так близко, как будто искала за ними прикрытия. Когда ее лицо стало различимо, Андрею показалось, что она улыбается. Он отошел к внутренней стороне аллеи, опоясывавшей парк. Едва уловимые до сих пор шорохи внезапно сплотились в широкий раскатистый гул. Он рос и ширился где-то в глубине земли, как будто оттаявшие корни буйно распирали почву. Андрей видел, как учащались шаги Мари. Она почти бежала к парку. Неужели до нее докатился трепет и гул земли, наполнивший Андрея непонятной тревогой? Он все ширился, этот подземный гул, он перешел в ясный, отчетливо слышимый шум, он охватил и заколебал не только почву, но и воздух, он перекатывался невидимой лавиной, он должен был с минуты на минуту раздавить Андрея.
Необъяснимо, почему Андрей не двинулся с места. Он ждал Мари неподвижно, следя за ее приближеньем в каком-то окоченении.
И вот, когда Мари была уже недалеко от него, он увидел лавину. Она выползала из-за поворота аллеи, в полусотне шагов от того места, где он стоял. Гул, волновавший землю, был поднят сотнями тяжелых ног.
Мари оставалось только перейти дорогу, чтобы протянуть Андрею руку. В этот момент лавина докатилась до стыка аллей. Андрей успел заметить, как глаза Мари остановились на приблизившемся шествии. Потом оно разделило их.
Его возглавляли вооруженные ландштурмисты, выступавшие понуро и медленно, насупленные, суровые. За ними двигались тесные ряды солдат. Четверо из первого ряда держались за шинельные хлястики ландштурмистов. Шедшие сзади положили свои руки на плечи передних.
Голубовато-серые помятые шинели были шиты одним портным, и суконные фуражки растягивались на одном болване. Но шаги колыхавшейся голубовато-серой солдатской массы не были шагами солдат. Ноги волочили оборванные тяжелые опорки и шаркали по земле, почти не поднимаясь над ней. Люди раскачивались из стороны в сторону, кучились, натыкались друг на друга. Руки их непрестанно вытягивались, ощупывая пространство и упираясь в спины и локти ступавших впереди.
Андрею бросился в глаза один солдат. Его голова была повернута вбок и подергивалась на длинной шее, как на нитке. Он точно вслушивался в то, что приближалось к нему с каждым шагом. Лицо его было сведено в гримасу, и рот стиснут так крепко, что челюстные мышцы выпячивались, как скулы. В черном круге ресниц стекленели остановившиеся глаза. В них проплывали спокойные тени нависших над аллеей веток.
Солдат был слеп.
Тогда Андрей неизмеримо коротким взглядом охватил проползавшую мимо толпу.
Лица десятков и сотен людей показались ему одним лицом. И когда он всмотрелся в него, он закричал.
Это было лицо Карла Эберсокса, каким он узнал его в Эрлангенском музее и потом во сне, когда багровая голова раздумывала — упасть ей или остаться на лестнице. Но — ужас, ужас! — по лицу убийцы, который с открытыми глазами взошел на эшафот, чтобы после смерти бесстыдно смотреть на людей из спиртовой музейной банки, по этому лицу текли слезы!
Андрей уже не видел толпы. Перед ним, где-то совсем вблизи, в расстоянии, на которое хватает человеческое дыханье, маячило лицо Эберсокса. Синие губы казненного вздрогнули, раскрылись, и, как во сне, Эберсокс произнес: