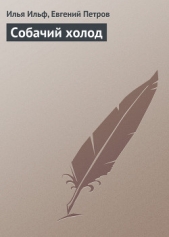Ладожский лед
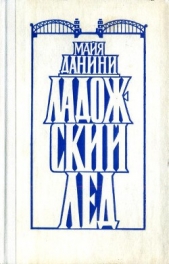
Ладожский лед читать книгу онлайн
Новая книга ленинградской писательницы Майи Данини включает произведения, относящиеся к жанру лирической прозы. Нравственная чистота общения людей с природой — основная тема многих ее произведений. О ком бы она ни писала — об ученом, хирурге, полярнике, ладожском рыбаке или о себе самой, — в ее произведениях неизменно звучит камертон детства. По нему писательница как бы проверяет и ценность, и талантливость, и нравственность своих героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Появился человек в костюме, сшитом так тщательно, что не оставалось больше ничего в глазах, кроме его подтянутой и обтянутой фигуры, — лица не было, только маленькие бакенбарды, только костюм, прекрасный костюм, сшитый неизвестно где по тем временам. Человек был очень высок и строен, кудряв, но все-таки главное в нем был костюм, который, казалось, если его снять, остался бы этим гитаристом и без него.
Этот человек был скован, как и его костюм, был изысканно вежлив, как костюм, и был цвета своего костюма — серым. Человек был без гитары. Во всяком случае, он вошел без гитары. Все притихли, и даже Надежда.
Кто-то спросил в тишине:
— А где же гитара?
Человек вздрогнул, и мама нарочно громко заговорила о том, что купила приемник, который совершенно не работает, — заговорила для того, чтобы нарушить воцарившуюся неловкость. Гитарист силился стряхнуть с себя взгляды, обращенные к нему, и чувствовалось, что он понимает всю неприязнь, исходящую главным образом от Нади и распространяющуюся на всех, сдерживаемую мамой и все-таки непреодолимую.
Сразу определилось: он — и остальные гости, он — и слушатели, он — и сдержанная насмешка, он — и мама, единственная без насмешки, веселая и непринужденная вопреки всем и потому еще больше разжигающая чужую неприязнь.
И он, человек в костюме, должен был почти против всех играть и заставить слушать, и не понимать, что они слушают насмешливо, просто чтобы все равно сказать: «Ну да, конечно, если любить такую музыку, то это не хуже, может быть лучше других».
И вот он принес свою гитару (к счастью, без банта), последний раз посмотрел на всех невидящими глазами, посмотрел и кашлянул. Стало тихо, и только Надежда где-то в углу извивалась на стуле, изображая игру на гитаре.
Он посмотрел и стал играть.
Все, привыкшие слушать, сидели тихо, никто не шевелился, не кашлянул, не скрипнул, но с первых же аккордов стало ясно, что слушать его игру нужна выдержка, что он играет так, как именно и не любят у нас, что все это идет мимо слушателей, и хорошо, если мимо, а то и раздражает. Но он играл, не обращая ни на что внимания.
Есть люди, которые не знают зала и делают то, что привыкли, как бы зал себя ни вел; есть люди, которые страшно тонко воспринимают реакцию слушателей, а он, казалось, и слышит, что все не в восторге, и не слышит этого, надеется и теряет надежду одновременно. Собственно, это уже была не игра, не музыка, а поединок со слушателем. Он злобствовал, играл ожесточенно, чисто, но не для нас. Все чувствовали, что он способен играть и способен разбудить людей, но будто и сам не может проснуться, не то что разбудить нас. И это страдание сна, когда человек хочет проснуться, но не может, было вместо игры.
И вдруг он грубо оборвал игру и громко, неловко громко сказал маме:
— Дайте мне карты.
— Карты? — не сразу отозвалась мама.
— Карты и веревку! — крикнул он.
И мама испуганно долго доставала карты и рылась в рабочей коробке.
Он отвернулся от всех и стоял спиной к нам, притихшим, подавленным, до тех пор, пока мама не дала ему карты. Некоторое время он тасовал колоду карт, стоя все так же спиной, и вдруг сердито и рывком повернулся ко мне, сидевшей в первом ряду, и сказал:
— Снимите!
Я не поняла и долго оглядывалась на всех, пока мне не помогли снять несколько верхних карт. Тогда он сказал:
— Запомните!
Я опять ничего не поняла, он отвернулся, еще раз повторил свой прием, и тогда я показала всем короля треф.
Он перемешал колоду, держа карты картинками к нам, быстро раскидывая их веером и собирая снова. И опять крикнул мне:
— Выньте карту из колоды!
Я вынула короля треф.
Напряжение исчезло, дети оживились, и даже мама легко вздохнула.
— Веревку, — сказал он, — веревку и платки!
Он посветлел, ободренный своим каким-то удовлетворением, и стал собирать платки, привязывать их к шпагату, завязывать и показывать, как прочно прикрепились платки к веревке, и вдруг завязал веревкой свою шею, потом подал концы веревки маме и мне и велел тянуть изо всех сил концы веревки, после сделал короткий жест, незаметный нам, и внезапно выпутался из веревки и спокойно стряхнул все платки на пол.
Мы, притихшие и испуганные, когда надо было тянуть концы веревки, наконец вздохнули, и кто-то легонько захлопал, захлопали дети и даже Надя, и он, ободренный, вдруг подозвал меня и потом велел поднять платок с моего стула. Когда я это сделала, все приподнялись с мест, чтобы посмотреть, что же там такое, и увидели шоколадку в виде ракушки, совсем настоящую шоколадку, большую, тяжеленькую, и один вид ее заставил моего соседа, маленького мальчика, вдруг громко прошептать: «Я тоже такую хочу». Тогда гитарист сделал еще какие-то пассы, погладил мальчика по голове и велел пошарить у матери в кармане, и мальчик вынул шоколадку, такую же, как мою, и всеобщее одобрение гитаристу воцарилось в комнате.
Надя вдруг появилась в первом ряду. Он и ее позвал. Она, быстро сбросившая с себя презрительную мину, явилась к нему с великолепным потупленным видом невинной, не знающей никаких злобных чувств отроковицы, с легким румянцем и пушком над волосами, который нимбом светился над головой. Она встала рядом с ним и скоро получила от него не шоколадку, нет, помаду, и покраснела еще сильнее. Но уже мама, обеспокоенная этим обилием подарков, хмурилась и недовольно глядела на Надежду, которая, забыв, что она стоит перед всеми, открывала помаду и готовилась даже покрасить губы. Гитарист перехватил мамин взгляд, но не одарил маму, нет, а вдруг снова взял гитару и теперь, когда от него ожидали фокусов и были совсем настроены на другой лад, думали, что и с гитарой проделает фокус, теперь вдруг стал играть.
Надежда еще не успела сесть, когда он начал играть «Очи черные», и присела на мой стул, не на свой, далекий, вжалась в стул и стиснула меня. И мама замерла, и все, кто только что делал вид, что слушает, слушали.
Да, я запомнила эти «Очи черные», я запомнила каждый звук, похожий на комариный свист, такой, что, кажется, вот-вот оборвется и замрет, но он не замирал, существовал и нисколько не был похож на звук гитары, был похож на звук флейты, привычный и потому любимый, был похож на арфу, не слишком привычную, но благородную и потому тоже любимую, но сверх всего этого был еще своеобразен и без всякого признака характерной смазанности звука гитары.
И он, гитарист, человек без лица, человек в прекрасном костюме, чужой, всеми отталкиваемый, фокусник, вдруг стал музыкантом, которого приняли разом, простили и облагородили. И ему аплодировали. Аплодировала и Надежда, вытеснившая меня с моего первого места (ведь нарочно села позади, чтобы хихикать). Она слушала его игру, но гитарист вдруг кончил свой концерт и на бесчисленные просьбы гостей не откликнулся. Сел понурый и усталый, победивший, но почему-то не торжествующий, мрачный, и сидел так долгое время молча, пока мама и все мы провожали соседей.
Бабушка стала накрывать на стол и устраивать обед.
Надо сказать, этот обед готовили заранее, специально для гитариста. Бульон с пирожками делала мама, что она делала довольно редко. И теперь, когда гости разошлись и остался только гитарист, даже Надежда, которую очень трудно было заставить что-нибудь делать, собственноручно раскладывала ложки и подбирала одинаковые. Она расставила тарелки, чередуя белые с синими, и это ее рвение имело трагические последствия.
Пока она это все устраивала, она посматривала на гитариста, а он запрокинул голову на кресло и, казалось, не смотрел на нее. А Надя все посматривала и посматривала и двигалась так медленно, так плавно, как это было и положено хорошо воспитанной девочке, когда она накрывает на стол. Наконец все было готово и гитариста пригласили. Он вскочил вдруг и склонился учтиво (сквозь эту учтивость угадывался очень неучтивый человек, человек, который силится быть учтивым) и сел рядом с Надеждой. Ему налили бульон, и он погрузил в него ложку. Все молча ели, и тогда гитарист сказал: