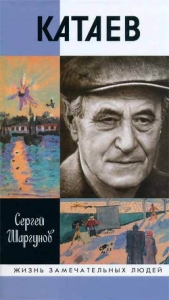Сердце: Повести и рассказы
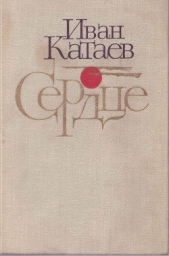
Сердце: Повести и рассказы читать книгу онлайн
Среди писателей конца 20 — 30-х годов отчетливо слышится взволнованный своеобразный голос Ивана Ивановича Катаева. Впервые он привлек к себе внимание читателей повестью «Сердце», написанной в 1927 году. За те 10 лет, которые И. Катаев работал в литературе, он создал повести, рассказы и очерки, многие из которых вошли в эту книгу.
В произведениях И. Катаева отразились важнейшие повороты в жизни страны, события, участником и свидетелем которых он был. Герои И. Катаева — люди бурной поры становления нашего общества, и вместе с тем творчество И. Катаева по-настоящему современно: мастерство большого художника, широта культуры, богатство языка, острота поднятых писателем нравственных проблем близки и нужны сегодняшнему читателю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Первым за гробами следовал Алешка Морозов в новых, Сашенькиных сапогах; их сильно забрызгало грязью, летевшей от колес. Рядом, под руку с Каратыгиным, с трудом пробирался Иван Яковлевич, поминутно оскользаясь и охая. За ними — Сугробов, Занозин, только что выписавшийся из госпиталя, бледный и почти неузнаваемый из-за того, что сбрил свою бородку, Коровин, Тейтельбаум, другие актеры; весь, поредевший от болезней и смертей, политотдел.
Духовую музыку Иван Яковлевич отменил, чтобы не мучить оркестрантов. Поэтому процессия двигалась в полной тишине, которую нарушали только скрип подводы и хлюпанье десятков ног по грязи. Дольше всего пришлось идти по той улице, где я жил, и когда показались вдали острые верхушки кладбищенских тополей, я вспомнил сразу лунные заморозки, такие недавние и далекие, и свои ребяческие ночные раздумья. Да, отныне я стану, наверное, намного серьезней, печальней и тверже. Нет на свете поэта, моего милого друга, не на кого мне теперь любоваться и надеяться... Надо постараться хоть чуточку заменить его в мире, меньше отдаваться самовлюбленным, напыщенным бредням, непрестанно работать, быть всегда готовым к тому, чтобы с честью погибнуть в борьбе... Мне надо стать старше, вырасти, как можно скорее вырасти....
У раскрытой могилы сияли крышки с гробов. Я не верил, что мой поэт здесь, мне не хотелось смотреть на неподвижное тело. Я глянул только мельком, и мне показалось, что это худое желтое лицо улыбается мне все той же странной, голодной улыбкой. Я отвернулся и совсем не посмотрел на Коппа.
Иван Яковлевич, взобравшись на груду земли, стал говорить речь; полы его протертой шинели раздувались ветром.
Он не докончил, закашлялся, закрыл лицо рукой. Каратыгин увел его в толпу. Вышел Сугробов с тезисами речи в руках. Он говорил что-то очень длинно и в заключение призвал к священной пролетарской мести. Потом заколотили крышки и на веревках опустили в могилу гроб Гулевича. Тяжелый гроб плеснулся днищем о поверхность воды, которой много было в яме, и почти затонул. Затем на крышку ему поставили маленький легкий гроб Коппа и засыпали яму. К свежему холмику подошел Морозов и забил в землю невысокий столбик с дощечкой. На дощечке рукой политотдельского художника было выведено:
Пролетарский поэт Александр Гулевич,
Литератор Эрнст Копп.
Дата смерти, и внизу:
Спите с миром, дорогие товарищи!
Захватив обходным движением Батайск, армия победно вышла в просторные кубанские степи. Плавные, светлые реки встретили.ее; необозримые, круглящиеся к горизонту поля, уже зазеленевшие первыми всходами; веселые, окаймленные садами станицы. Раскрылись лесистые предгорья, и за ними, высоко отчеркнутое от неба, сверкнуло голубое море.
Западное крыло армии, прошумев боями и знаменами через Ахтырскую, Темрюк, Екатеринодар, катилось к Новороссийску. Восточные части приближались к плодоносной, виннотерпкой Терской долине, и по утрам перед нами, в туманном далеке, как невозможное видение, как высшая, никогда не приближаемая мечта, возникали розовеющие ледяные вершины великого хребта.
Неуклюже зашевелился, загрохотал фургонами, грянул паровозными гудками тяжелый штабарм и медленно выполз из Луганска, навсегда покидая засоренные бумажными обрывками дома, темные, беспамятные дни и неподвижные могилы.
1928
Жена
Вода пробегала вдоль борта, густая на вид и гладкая. Опуская в нее пальцы, я приготовился почувствовать хоть легкий холодок, но она оказалась расслабленно-теплой, почти неощутимой. Веслами Стригунов гнал по воде маленькие воронки; они летели, вращаясь, к корме, мимо меня, исчезали. Их края, бутылочно-зеленые, с мягким тающим изгибом, показались мне верхом изящества, и я задумался было о красоте водяных вертикалей, сравнимых только с очертаниями человеческого тела, — о линии падения плененного Волхова, могучей и скользкой, как абрис аттической спины, о морской волне, плавно склоняющей шею, чтобы обрушиться и шипящей пеной взбежать на плоский берег. Тут нас стала обгонять лодка о двух парах весел. Оттуда взвизгнула девица с резвыми кудельками, выпущенными из-под розовой повязки.
— И-их, мальчики, штаны не подмочитя!..
Подруга ее, сидевшая на передних веслах, спокойно захохотала, бледное от пудры лицо ее было бесстрастно и толсто, как дыня. Она сказала панельным басом насчет Стригунова:
— Очки-то нацепил лягушачьи, а грести не умеет.
Их кавалер в кепке, сдвинутой на нос, и с галстуком-бабочкой, сидя у руля, растягивал толстую гармонь. О и невозмутимо глядел в сторону женского пляжа.
Стригунов растерянно оглянулся, поспешно придумывая ядовитое, но пока собрался, девки еще наддали, хохоча и стараясь нас забрызгать; их лодка стала уходить. Гармонь продолжала уверенно выговаривать «Кирпичики». Девица в розовой повязке высоко подхватила, и над рекой туманом заколыхалась та печаль, что всегда слышна в удаляющейся песне.
Стригунов, наконец, сказал смущенно:
— Ну и нахальные же девки!.. — Помолчал и прибавил: — Гребу же я, по-моему, неплохо, напрасно это они.
Весла в его руках запрыгали совсем беспорядочно.
Я улыбнулся:
-г Только не зарывай так глубоко. Подальше заводи назад.
Когда мы садились в лодку, Стригунов мужественно засучил рукава, и теперь мне грустно было видеть его худые комнатно-голубоватые руки. Все такой же он, узкоплечий и добропорядочный, лишенный живой веселости, той, что с кровью гуляет в теле, и тщательно веселящийся, когда это, по его мнению, нужно для пользы дела.
Странны эти московские случайные встречи с людьми, которых вовсе было оттиснули и спрятали годы. Кто планирует эти пристальные, туго узнающие взгляды в трамваях, в банях, в коридорах МК и ЦК, эти восторженные или натянутые «А-а!..», эти размашистые или осторожные рукопожатия?
Я встретил Стригунова на несостоявшемся агитпропсовещании в райкоме. На балкончике, выходящем в сад, сидели человек пять бесплодно ожидающих. Они созерцали сверху ожесточенную схватку в городки на площадке около гипсового Маркса. Один из них заметил с знакомым возмущенным заиканием:
— Д-дернул же черт кого-то созывать в субботу! Люди купаться едут, на дачу собираются... И, насколько мае помнится, есть даже специальный циркуляр насчет субботы.
Я оглянулся. Мешали его непомерно круглые очки в черной оправе. Но за ними были прищуренные глаза Стригунова цвета ноябрьского неба.
Когда ожидавшие с сердцем громыхнули стульями и разошлись, чертыхаясь, мы отправились кататься на лодке. И вот пыльно-золотистая и голубая Москва-река скользит под нами, и улыбающаяся зелень сада Голицынской больницы, обомшелый песчаник его набережной с двумя белоколонными ротондами по краям переломлены и отражены с точностью в уснувшей воде.
В пустые и сожженные июльские вечера познается особая затаенная предуготовленность этого юго-западного угла Москвы, отграниченного Крымским мостом. Тут можно ощутить всю переутомленную молодость города, заново рожденного, старающегося накопить и безоглядно растрачивающего соки.
Правый берег — витиеватое убожество выставки с выцветающей, как юность, как память азиатских скитаний, голубизной туркестанского павильона, потом — нетронутое усадебное захолустье сочных садов: Голицынского, Нескучного, Мамоновой дачи, за ними, за Андреевской богадельней, — радушный изгиб Воробьевки.
Левый берег — скучные насыпи, сточные канавы, захарканные лачуги и неуверенный, качающийся бег двадцать четвертого номера по новым рельсам, проложенным на собачьих костях, бутылочных горлышках и строительном щебне, вплоть до необозримого простора стародавних Пышкинских огородов — великих капустных плантаций. Там безраздельное царство огромных угрюмых свиней, которые бродят, касаясь сосками земли, вокруг хибарок, скроенных из ржавого листового железа.