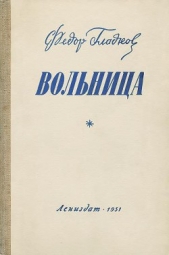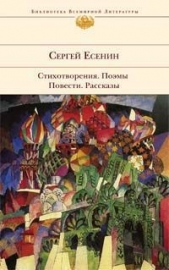Лихая година

Лихая година читать книгу онлайн
В романе "Лихая година", продолжая горьковские реалистические традиции, Фёдор Васильевич Гладков (1883 — 1958) описывает тяжелую жизнь крестьянства.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Гараська с весёлым презрением язвил:
— А кто же тятьке ябедничать будет?
Елена Григорьевна укорительно покачала головой и подошла к Шустёнку.
— Ну, брось свою палку, Ваня, и пойдем со мной — будем все вместе. Нельзя враждовать с товарищами, от этого плохо прежде всего тебе же. Слышал, как мы интересно беседуем?
Шустёнок, как назло, начал с размаху шлёпать палкой по грязи, и чёрные брызги далеко полетели в нашу сторону. Елена Григорьевна отскочила назад и испуганно оглядела рукава кофточки.
Меня как будто опалило огнём: этот сволочонок посмел оскорбить Елену Григорьевну! Не помня себя, я бросился к нему со всех ног, вышиб из его рук палку и стал трясти его за уши.
Он так был ошарашен, что и руки не поднял, а только замычал от боли.
Меня оторвала от него Елена Григорьевна, а Миколька, посмеиваясь, поощрительно припугнул меня:
— Молодец‑то молодец, а теперь берегись — от сотского житья не будет.
— Боялся я, как же…
Кузярь толчками гнал Шустёнка куда‑то в лес.
— Браво! Доблестные у тебя защитники, Лёля!
С крутого спуска между стволами берёз сбегал Антон Макарыч. В серой тужурке, в примятом, сдвинутом на затылок картузе с голубым околышем, размашистый, полный здоровья, он пленял меня своей простотой, жизнерадостностью и какой‑то неотразимой внутренней силой.
Елена Григорьевна покраснела и вся затрепетала от радости. А он подошёл к ней, взял её руку и поднёс к губам. Это было так ошеломительно для нас, что мы сбились в плотную кучку и глазели на учительницу и Антона Макарыча с немым изумлением. Кузярь ухмылялся и глупо чмокал свою руку. Но Гараська ударил его по руке и забормотал сердито, как парень, который знает барское обращение:
— Чего передразниваешь, дурак! У городских это в обычае. Кавалер всегда к ручке прикладывается.
XIX
Как‑то во время уроков внезапно раздался весёлый церковный трезвон. В окно видно было, как Лукич на колокольне прыгал и махал обеими руками, словно лихо плясал вприсядку. Ребятишки всполошились и вскочили с мест. Елена Григорьевна, встревоженная, побледневшая, кое‑как утихомирила ребят и упавшим голосом сказала, словно сообщила о несчастье:
— К нам в село въезжает священник. Хотя трезвоном встречают только архиерея, но староста, вероятно, решил со звоном принять батюшку. Для прихожан это большое событие: ведь своего священника не было здесь много лет.
Дверь в класс быстро распахнулась, и на пороге появился сотский с грозно выпученными глазами, в суконной поддёвке, с шашкой на боку.
— Учительша! — по–солдатски скомандовал он. — Веди своих учеников встречать его преподобие, батюшку. Чтобы у меня всё было, елёха–воха, чинно–благородно… Марш все на улицу!
Елену Григорьевну я никогда ещё не видел такой разгневанной и властной. Она храбро пошла к двери, высоко подняв голову, и накинулась на сотского:
— Как вы смели, сотский, ворваться в класс без моего разрешения и нарушить занятия? Убирайтесь вон и носа своего больше не показывайте!
Я с ликующей радостью следил за каждым движением учительницы и торжествовал, наблюдая за сотским, который ошарашенно стоял в распахе двери и бормотал несуразно:
— Это как, елёха–воха?.. Не слушаться?.. Кто ты здесь?
— Хозяйка! А ты здесь — никто! Я подчиняюсь только инспектору народных училищ. Закрой дверь и больше сюда ни ногой!
Сотский со злобной растерянностью попятился назад и огрызнулся:
— Ну, погоди же… я становому донесу… батюшке доложу…
Елена Григорьевна молча отстранила его рукой и затворила дверь. Возвратилась она к своему столику хоть и бледная, потрясённая, но в глазах её горячо переливались лихорадочные огоньки, а сама она стала как будто выше ростом, и во всей её стройной фигурке чувствовалась гордость и боевое удовлетворение.
С милой улыбкой она оглядела всех ребятишек и сказала просто и спокойно:
— Ну, ребятки, за дело! Продолжим наши уроки!
Колокольный трезвон разливался попрежнему лихо и оглушительно, но почему‑то не тушил голоса Елены Григорьевны. Кузярь шептал мне, задыхаясь от удовольствия:
— Вот так да! И не побоялась в морду Гришке плюнуть. Вот надо‑то как! А он, как барбос, и хвост перед ней поджал.
Миколька хитренько подмигивал нам и поглядывал на Елену Григорьевну озадаченно и встревоженно: я видел, что он не ожидает ничего хорошего от столкновения её с сотским и боится за её судьбу.
На перемене мы увидели толпу мужиков и баб у нового дома попа, тройку лошадей поодаль и два воза с поклажей. Высокий поп в коричневой рясе, гладко причёсанный, с бабьей косой, свёрнутой в дулю на шее, крестил толпу двуперстием и говорил что‑то благочестиво и елейно. Лицо в тёмной бороде улыбалось морщинками около глаз, и издали он был очень похож на иерея Иоанна Кронштадтского, лубочный портрет которого висел на стене в мирских избах. Около него без картузов увивались староста и сотский.
В этот день он к нам в школу не пришёл, и мы, как обычно, слушали чтение Елены Григорьевны. Она рассмешила нас стихотворением Алексея Толстого:
Мы с Кузярём и Гараськой просили её прочитать ещё и ещё раз.
Она лукаво спрашивала:
— А чем стихи вам понравились?
Нам казалось, что эти ядовитые, складные слова написаны про наше село, про бар и мироедов: каждая фраза была понятна, близка нам и прочно въедалась в память своей солёной остротой. Мы наперебой перекликались отдельными строфами. Кузярь насмешливо сообщил:
А Гараська озорно налетел на него:
Я спрашивал их обоих обличительно:
— Да ведь народу‑то жрать нечего. Откуда же у него тело‑то будет?
Гараська или Кузярь самодовольно отвечали:
Ребятишки хохотали и приставали к нам:
— А ну‑ка, ещё… Эх, как гоже‑то!
Елена Григорьевна заражалась нашей игрой и читала стихи о Спеси. А Кузярь проходил по прихожей, задирая голову, и важно тянул:
Ребятишки и девочки обмирали со смеху и повизгивали от восторга:
— Ведь чудодей‑то какой! Ну, вылитый Сергей Ивагин!
Смеялась и Елена Григорьевна, пристально наблюдая каждого из нас. А Миколька стоял, как взрослый поодаль и, ухмыляясь себе на уме, с притворной простоватостью поощрял нас:
— Вам бы в балагане на ярманке представлять… Глядишь, по гривне заработали бы.
Сложив руки на груди, как умный мужик, Сёма снисходительно усмехался. Он чуждался наших весёлых проказ. Ему было здесь не по себе: у него по домашности много было забот. Дедушка недужил и больше лежал на печи: последний год подкосил его и неурожаем, и бескормицей, и расколом семьи.
Мать рассказывала мне, как однажды он пришёл к нам в избушку и, словно нищий, просил отца помочь допахать арендованную дедушкину землю на нашей стороне вместе с Титом. Отец с матерью гостеприимно приветили его, угостили обедом и ухаживали за ним, как за дорогим гостем. А дедушка, растроганный, жаловался на свои недостатки — на разор, вспоминал о былых годах и плакал, стряхивая заскорузлыми пальцами слёзы с седой бороды. А потом начал по старой привычке владыки дома поучать отца, как надо жить исправно, как хозяйничать, и ругать его за уход из семьи и за распутство на чужой стороне. Отец сидел за столом рядом с дедом и тёр ладонями глаза, скрывая злорадную усмешку.