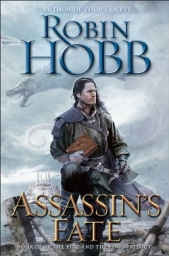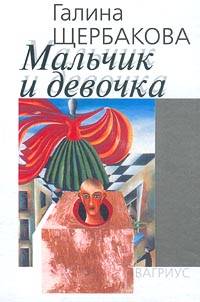Будем кроткими как дети (сборник)

Будем кроткими как дети (сборник) читать книгу онлайн
Автор известного романа "Белка" интересен и своими рассказами. Большинство из них написаны во время его проживания на Сахалине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К вечеру он все еще был на кладбище, лежал под березой и смотрел в небо. Вдруг вышел из-за куста и подошел к нему цыганский паренек, на вид одного с ним возраста. Был цыганенок босой, в болтавшейся навыпуск грязной рубахе. С круглыми смуглыми щеками, на голове картуз, прижимавший ко лбу темные тугие кудри.
— Ну, чего ты? — молвил он, глядя на привставшего с земли мальчика. — Боишься?
— Нет, — ответил Мансам.
— Стыкаться будем на кулаках? — мужественно спросил цыган.
— Не знаю.
— Ты корейчонок, что ли? Батька с маткой здесь живут? Хочешь, спляшу тебе на пузе и на голове? — стал он задавать вопросы, не дожидаясь ответов на них.
— Мой отец вон там лежит. А мать убежала с другим, — спокойно ответил Мансам.
— Эх ты-и! — только и нашелся что сказать цыган и, повернув яркие черные глаза, испуганно уставился в сторону кладбища. — А не видал ты, малай, жеребца? — спросил он после. — У него туточка написано: «Шэ Вэ», — хлопнул он себя по бедру. — Гнедой весь.
— Видел, — сказал Мансам. — Вон туда ушел. — И махнул в сторону видневшегося вдали речного лога.
— Ну, побегу шукать. Доброго здоровья! — И цыган стащил картуз и поклонился, словно артист.
Когда удалился цыганский парень, Мансам услышал, как кричит кукушка в лесу. От ее слез, ясно различимых в одиноком крике, мальчику стало невмоготу. Она была такая же сирота и брошенный ребенок, как и он. И, желая посмотреть на родственную птицу вблизи, Мансам поднялся и пошел на ее голос. Он крался под березами, раскидистыми дубами, тихо обходил круглые шатры лещины — продвигался вперед только тогда, когда кукушка кричала, не хотел спугнуть ее. И крик ее раздавался все ближе и ближе. И наконец совсем близко, над самой головою. Стоя под большим дубом, Мансам прострелил взглядом сквозь пустоты меж ветвями и увидел птицу.
Дышал вечерний смуглый свет на вершинной зелени дуба. Ветки его казались кое-где бронзовыми. Мансам стоял, подняв голову. В руке он держал узелок. И вот же что странно! Крик кукушки вблизи был хриплым, почти грубым. Она сидела на сухой ветке, обратив полосатую грудь в сторону заката. Повернув голову набок, она уставляла круглый глупый глаз на солнце. Затем надувала зоб, долго хрипела, прежде чем гулко и бесчувственно прокуковать. Значит, грусть кукушкина только чудится нам! Это мы, мы сами грустим, слыша ее крик сквозь прозрачный воздух полей! Это наша печаль ложится тлеющей позолотой поверх тихой вечерней зелени леса.
Мансам затемно вернулся на станцию. Он помнил приглашение дежурного по станции, который так задушевно разговаривал с ним, но постеснялся идти в чужой дом. В узелке была еда, он не был голоден. А спать решил он на деревянном диване в вокзале.
Возле белой, смутной в сумерках станции было тихо. За палисадной оградой под деревом горел маленький костер. Две фигуры виднелись там. Сидела цыганка на своих раздутых юбках. Рядом цыган в шляпе что-то ел из миски, прижимая ее к груди. На костре стоял черный таганок.
Откуда-то сбоку ухнул и выпрыгнул на Мансама знакомый парнишка-цыган, рассмеялся.
— Ты почему туточки? — спросил он.
— Спать буду. Я не здесь живу. Утром на поезде поеду.
— Айда с нами кулеш есть.
— Не хочу, — отказался Мансам.
— Айда! Вкусный кулеш…
Потом парнишка убежал, перемахнув с разбегу через палисадник. Мелькнуло под рубахой голое тело темнее рубахи. Возле костра он о чем-то заговорил с женщиной, и та сердитым голосом отвечала. Забубнил что-то взрослый цыган. Опять заговорил, волнуясь и сердясь, мальчишка. И вдруг он снова появился — так же перемахнул через ограду и подбежал к Мансаму. В руке держал мясную кость, над которой шел пар.
— На, рубай! — передал он кость Мансаму, улыбнувшись с щедрым видом, вытер руку о рубаху и умчался назад.
Мансам зашел в пассажирский зал ожидания. Там ни души не было. Он устроился на широкую диванную лавку и принялся за вкусную баранину. Вскоре за окном прогрохотал, сотрясая землю, длинный, тяжелый поезд. Мансам сидел и думал о цыганском парнишке, которого никогда не забудет.
5
Вернувшись домой, Мансам хотел пойти в батраки и сам воспитывать сестру. Но взрослые из побратимов покойного отца решили по-другому. Мальчику велено было доучиваться, кончать школу, а жить перейти к соседке. Сестру же его определили к двум престарелым бобылям Ляну и Муну, — которые жили совместно в одной избе.
Обоим старикам было уже за шестьдесят. Оба всю жизнь прошатались в батраках. Так и не женились и под старость купили на двоих домик, соединив свои капиталы.
Когда Мансам привел к ним сестру, старики выбежали навстречу, отпихивая друг друга в дверях. Первым подбежал Лян — хилый, узкобородый, маленький, но шустрый, быстрый, ласковый. Он подхватил узел с вещами и закружился, запел:
— Дочка наша пришла! Мы будем кормить ее белой рисовой кашей, а она нам будет рубахи шить!
Подбежал и огромный старик Мун с бородою густой и бурой, словно медвежья шерсть. По старинной моде он не стриг волос и носил их в виде пучка на макушке.
— Как здоровье твое, Мансам? — спросил он у мальчика, словно у взрослого.
— Здоровье хорошее, — ответил мальчик. — А у вас?
— Какие там гроши! — загремел старик и отмахнулся. — Сынок! Не в грошах счастье.
Старик Мун был глух, как тетерев. Улыбаясь, он склонился к девочке и погладил ее по голове.
— Ты будешь нашей дочкой, а? — загудел он. — Заходи, заходи в дом, будь хозяйкой!
И он взял девочку за руку, повел к дому.
Мансам уходил оглядываясь. Из трубы избушки вдруг повалил дым. Видно, старик Лян принялся стряпать праздничный обед.
Старик Лян был у них за хозяйку. С тех пор как у бобылей заимелся собственный дом, дому нужна стала хозяйка, и на место ее приспособился старик Лян. Он кашеварил, солил редьку, мыл полы и ставил заплаты на одежду My на. А старик Мун дома бил баклуши — плел лапти, резал табак или храпел у себя за печкой. Зато слабосильный Лян больше не ходил на поле, серпа и мотыги не держал в руках. От домашней жизни хилый Лян располнел, и на щеках его выперли сморщенные пампушки. Лысина его стала белой и гладкой.
Прошло два года, как появился у них приемный ребенок. Теперь девочке стало четырнадцать лет, и глухой богатырь Мун уже больше не таскал ее на закорках по двору, словно маленькую. Такие шутки отошли, девка стала большая, полная.
За эти годы Мансам окончил школу и к зиме собирался подаваться в батраки — наняться к какому-нибудь середняку крестьянину. Сестру свою он навещал часто, но каждый раз уходил теперь от нее хмурый, беспокойный. Она никак не хотела учиться. Жила у стариков в лени, баловстве, только и знала, что жевать сахарные тянучки.
Однажды Мансам пришел к бобылям и удивился тишине, стоявшей в доме. Дверь была приоткрыта. Он вошел и увидел, что сестра стоит в углу, расстегнув кофточку, и прижимает к груди пушистого котенка. Она подняла голову, и лицо ее показалось брату новым, незнакомым. Почему-то испугался он и сердито приказал:
— Закрой грудь, бестолковщина.
Сестра выпустила котенка и медленно, словно нехотя, застегнулась.
— Ты зачем балуешься с кошкой? — строго спросил брат.
— Нельзя, что ли, с кошкой поиграть, — огрызнулась девочка.
— Ты в школу не ходишь, а вот чем занимаешься, — упрекнул Мансам.
— Мне в школе спать хочется!
— Почему же другим не хочется? Ты просто ленивая!
— Нет, не ленивая, не ленивая, — захныкала сестра.
Затем она посмотрела на брата — взглядом загадочным, смутным — и вышла за дверь. Брат остался один в чужом доме.
С этого дня болезненная тревога за сестру не покидала его. Неясная для самого юноши боль тлела и раздувалась и все сильнее жгла ему душу, и он ходил по селу как потерянный. Словно некий грозный, беспощадный и равнодушный бог приоткрыл перед мальчиком свой лик, и Мансам не знал, как спасти сестру от этого бога. А что может быть дороже для юноши, чем чистота сестры? Мансам мучился одиноко, и никто, кроме матери или отца, не смог бы помочь ему и успокоить.