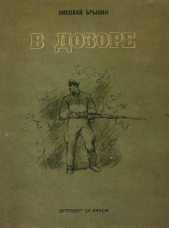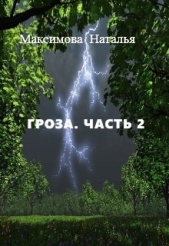Барсуки

Барсуки читать книгу онлайн
«Барсуки» – первый большой роман Леонова, знаменовавший значительный рост художественного дарования автора и выдвинувший его уже тогда, в 1925 году, в первые ряды советских писателей.
Роман «Барсуки» – крупное эпическое полотно, в котором изображено предреволюционное московское мещанство и драматические эпизоды революционной борьбы в деревне. Глубокое знание старорусского бытового уклада дало возможность автору создать яркие образы деревенских искателей правды, показать характеры городских торговцев и ремесленников.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Ты что, ровно муха, на меня лезешь? – огрызнулся Половинкин, и руки его, вдруг ослабев, сами опустились на колени вместе с газетой.
– Пиджачок-то... – не своим голосом прохрипел Егор Брыкин в самый раскрытый рот уполномоченного, приседая в согнутых коленях: – ...перешивали пиджачок-то?.. Али и так подошел?!... – и протягивал палец, порезанный вчера и теперь обмотанный грязной тряпицей, прямо к своему пиджаку, сидевшему на Половинкине, и правда, как-то подозрительно.
Пиджак этот был куплен Егором к свадьбе, куплен был на возможное брюхо и рост, в нем и венчался, хороший пиджак, синий с искоркой, сохранялся под нафталином в Анниной укладке.
– Что ж ты хочешь этим сказать? – подгибая напрягшуюся шею, быком уставился в Егоров перевязанный палец Половинкин. – Украл я его, что ли?! Сама же твоя-то и подарила мне... – он метнул просительный взгляд на председателя, но тому с мужиками было только до самого себя. – Возьми свой пиджак, коли нужен... Он, к тому же, и тесен мне, в плечах теснит... – неловким голосом предложил Половинкин, делая движенья, точно жег плечи ему Аннин подарок, и вытер лоб ладонью.
– Что вы! что вы!.. – замахал на него руками Егор Иваныч, как в припадке безумья, перегибаясь в пояснице то туда, то сюда. – Денно и нощно за вас, благодетелей, бога молим... что посетили вы сирую домуху мою... не погнушались! – он с надрывом ударил себя в грудь и одновременно смахнул с губ пену неистовства. – Осеменили, можно сказать!.. Носите, носите на здоровьице пиджачок мой! В морду еще меня ударьте, ну ударь, ну!! Половинкин стоял, как каменный, перед комаром, досадливо звеневшим перед глазами. Все лез комар: – погоди! Трепачком заставим вас ходить! животишко мне лизать станешь... гусак жирный!..
– Не доберешься, пожалуй, – попробовал посмеяться Сергей Половинкин, пробуждаясь от каменного своего оцепенения.
– Что ж, петушиное слово знаешь, что ли?.. что и не доберусь до тебя... – ярым шопотом издевался Брыкин. – Хлопушек твоих, думаешь, побоимся? – кивнул он на наган и ручную гранату, подвешенную на ремешке к Половинкинскому поясу.
– Не в хлопушках, братец, дело, а высоко, братец ты мой, поставлены! – затеребил усы Половинкин: признак того, что гневался.
– Кем же ты, батюшка, поставлен? – прикинувшись старухой, прошамкал Брыкин. – Богом, что ли?..
– Чортом!! – гаркнул, окончательно озлясь, Половинкин и, показав Брыкину язык, прошел в дверь.
Второй конь, статная кобылка, принадлежал, видимо, Половинкину. Через минуту с улицы донесся до Брыкина мерный ее топ. Егор Иваныч успел добежать до окна. То, что он увидел, еще больше взъярило его. По пустынной и пыльной улице, залитой неистовым солнцем, уезжал Половинкин. Худящая Подпрятовская собачонка надрывалась от лая, вертясь у лошади в ногах. Сергей Остифеич махнул хворостинкой, кобыла ринулась вперед, а собачонка оторопело замерла перед облаком пыли, побитая и растерянная.
Мужики все еще гудели, но уже тише. Матвей Лызлов звучно отчитывал Васятку за не в меру ревностное ведение дел. Васятка глядел мрачно.
– Декрет был про гуж, – в десятый раз оборонялся Васятка. – Третий пункт!
– Третий есть, значит – и четвертый будет! – наступал отец.
– Нет там такого... – все больше румянился Васятка.
...Полдневная жара стихала, но все – и избы за окном, и лица мужиков, и белая председателева рубаха, – все было кумачево-красным для выпученных Егоровых глаз, по всему бегали одинакие юркие кружочки головокружения. Даже прохладная зелень яблонь, нагретая зноем, испускала, казалось, из себя на Егора моргающий красный свет. Красное проступило отовсюду в Егорово сознанье.
Только когда отошел на сто шагов от исполкомского места, пообдуло с него начинавшимся ветерком гневную истому.
VI. Вступает Семен.
Вскоре еще одним солдатом прибавилось в Ворах.
Последние восемь верст пришлось хромать солдату в ночное время, влекло его неудержимо домой. Был этот солдат громоздкого роста, и на дорогах не напрасно косились люди на его большое лицо, на его нескладный можжевеловый костыль, – этакая разбойничья кочерыжка. Поистрепался в жаре военных неурядиц, но и теперь видно было: истовое дитя Воровской стороны, костяк широкий, поместительный, есть где сердцу ходить.
Потому, что приходил он с другого края, чем Брыкин, попадались ему и места иные: лесные, неоткрытые. Итти было приятно по холодку. Приятно было возвращаться из тревожных городских зыбей в свою зеленую лесную глушь, где – вон она! – наступает неудержимая лесная лавина, где – вон они! – полянки, не топтанные, кажется, ни человеком, ни конем. Но давала себя знать подраненая нога, залеченная лишь наполовину. Отзывался каждый десятый шаг судорогой на его лице, а на каждом сотом останавливался отдохнуть. Ладно еще, что никогда не бывает утомительна кладь путешествующего в одиночку солдата. – Дойдя до опушки, он присел на пенек.
Ночь приходила к убыли. Небо прожелтело легонько с восточной лесной стороны, в нижнем слою походя на новину, новокрашенную ольхой. Стояла настороженная тишина, словно всякое прислушивалось из глубины своих нор, с высот своих гнезд к неуловимому началу восхода. Яблоками пахла предвосходная та пора, точно горы их были навалены где-то поблизости. Вдруг зарделись земные закраины, заголубела желтизна. Похолодало на одно мгновенье. Потом воздух вздрогнул, – ударили по нему первые быстрые лучи. Не сразу, но вскочил один, нечаянный, и на письмо, которое разложил солдат у себя на коленях.
Тут разом заворошился лес: все живое запищало, закричало, засвистело, полезло, громоздясь и вопя, на широкую солнечную волю. И месяц, гость ночи, зачарованный, не спешил уходить, хоть и сгонял его с неба умножающийся свет.
Впереди текла Курья, в версте за нею сидели Воры на холму. Далеко влево, на взмахе глаза, высились Свинулинские развалины. Подул ветерок и донес, не расплескав, к солдату разнозвучные голоса пробуждающегося села. Резкий, как и первый солнечный луч, вплавился в воздух пастуший рожок. Тяжко щелкнул невидимый бич. И вдруг вся тишина наполнилась криками выгоняемого на луг скота, даже тесно стало от звуков. И было понятно, что о том же кричит и корова, и овца, о чем и листок, и птица, и всякая лесная мелюзга. Из крайнего заулка бурным потоком высыпали овцы и кони. Воздух чист, как ключевая вода. Пыль, отяжелевшая за ночь, не подымалась. Не пылят утренние дороги ни под шагом, ни под колесом...
Ущемилось воспоминаньем солдатово сердце. Дым и небылица! Вот так же и он выганивал скотину и все силился выдуть из Лызловского рожка хоть четвертинку пастуховской песни. О чем играл в давнем детстве Максим Лызлов? Да обо всем, что видано. Видел бегущую собаку старый Максим, о бегущей собаке и пел рожок! – Солдат встал и захромал ближе к Курье. Воспоминанья неотступно следовали за ним. Глебовская пойма, – здесь резали с Пашкой дудки из веха, а там, под ветлой, дремал Максим. Вон там, где от зимы осталась веха, замычала первая корова. Вот здесь мужики навалились на провинившегося Максима, – все заровнялось, и не узнать теперь по сочной, острой траве, как притоптана она была двенадцать лет назад.
Двенадцать, – небылица и дым! Брыкин нашел, едучи женихаться. Мать отпаивала молоком и целую неделю прятала Сеню в риге. Потом – Зарядье. Дым и небылица, тоска и боль. Настя, чье письмо теперь в солдатовой руке. Кричит Дудин, и смеется Катушин, жизнь и смерть, дым и небылица. Потом война. Потом еще война и рана в ногу... Как молодой кусток в лесном пожаре, сгорела юность, и вот золой играет ветер, задувает ее в глаза, и глазам больно.
Стадо приблизилось к Семену, располагаясь по сю сторону Курьи. Опять, под той же ветлой, где и Максим, сидит пастух и плетет обычный лапоть, а пастушата собираются купаться. Несбыточное и повторяемое из века в век! И вот Семена потянуло к пастуху, и он пошел хромым шагом, а не доходя шагов трех, поздоровался громко и дружелюбно:
– А ну, дед, закурим, что ли!