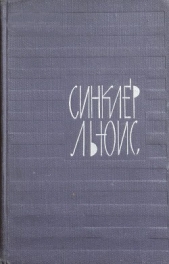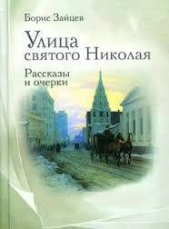Арбат, режимная улица
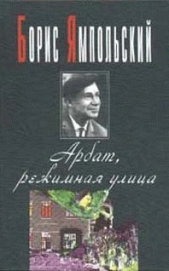
Арбат, режимная улица читать книгу онлайн
Творчество Бориса Ямпольского незаслуженно замалчивалось при его жизни. Опубликована едва ли четвертая часть его богатого литературного наследия, многие произведения считаются безвозвратно утерянными. В чем причина? И в пресловутом «пятом пункте», и в живом, свободном, богатом метафорами языке, не вписывающемся в рамки официального «новояза», а главное — в явном нежелании «к штыку приравнять перо». Простые люди, их повседневные заботы, радости и печали, незамысловатый быт были ближе и роднее писателю, чем «будни великих строек». В расширенное по сравнению с печатным электронное издание вошли очерки писателя и очерк Владимира Приходько о самом Борисе Ямпольском.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В вестибюле гостиницы „Москва" было чисто, тепло, парадно и пусто, как на избирательном участке в ночь перед выборами.
Там, в конце длинного вестибюля, в нише, высвеченный маленьким прожектором, мерцая, стоял во весь шинельный высокий рост мраморный генералиссимус, и еще слева, за аптечным киоском, он же в кителе сидел на широкой садовой скамейке рядом с Лениным, как бы обнявшись по-дружески, свойски, неразлучно беседуя, и не он, а Ленин, склонившись к нему в мраморной чуткости, прислушивался, ловя его советы. И кроме того, еще со стены, с огромного панно, он с трубочкой в зубах, задумчиво и мудро глядел в полуоткрытое зашторенное окно кабинета поверх кремлевских красноосвещенных восходящим солнцем стен на утреннюю, летнюю, озаренную его жизнью Москву. И повсюду стояли горшки с бледными зимними оранжерейными гортензиями и была торжественно-траурная тишина.
Несколько ночных пассажиров с крашеными фанерными чемоданами прошли в сумраке между мраморными колоннами к ярко освещенному окошку администратора и что-то спросили, им что-то ответили, и они отошли, и стояли растерянные. И так они были нелепо чужды и беззащитны в своих черных и синих длиннополых пальто, с деревянными чемоданами среди храмовой высоты вестибюля, калориферного тепла и зеленых кадок с пальмами, на виду у пятиметрового мраморного генералиссимуса. Они держали короткий, тихий провинциальный совет и гуськом, мимо швейцара в серебряной канители, неподвижно стоявшего у дверей, вышли друг за другом с деревянными чемоданами России в снежную метель.
У окошка дежурного администратора было тихо, казалось, номера выдают в небесной канцелярии, вдруг звонили с седьмого неба и говорили: „Броня", и если и, бывало, какой-то дикий, заросший командировочный провинциал в сапогах с галошами и разбухшим портфелем, или в чеховском пенсне с саквояжем, или же пьяный московский мастеровой, вдруг случайно залетевший в гостиницу, спрашивали: „Номера есть?", — им отвечали: „Не бывает…"
Такими странными, холодно-чужими казались теперь эти мраморно-парадные колонны, и хоры, и высокие лепные потолки, словно это был дворец шаха, Гарун аль-Рашида, а в войну, когда я вернулся из партизан, я долго жил тут, возвращаясь, как к себе домой; вдруг на минуту пришло ощущение, что я и сейчас тоже живу, и в теплом уютном лифте поднимусь на свой этаж, в свой номер, и все это невозможно отдалилось, словно это было в другой стране или в другом веке.
Я сел в мягкое кожаное кресло, и мне стало покойно и хорошо.
… Скоро Новый год, в ресторан „Москва" съезжаются гости, у парадного ярко и празднично иллюминацией украшенного подъезда сержанты милиции еще на улице проверяют пригласительные билеты.
А в тихой и пустынной гостинице по мраморной лестнице поднимались три молодых человека в серо-стальных коверкотовых костюмах, новых носках и новых лаковых штиблетах. Они разделись внизу и на вопрос швейцара „В какой номер?", ничего не ответили, только взглянули ему в глаза, и он кивнул, и покорно взял их одинаковые, сшитые в одном ателье пальто, и одинаковые велюровые шляпы, и с поклоном вручил жетоны, к проводил их серьезным грустно-восторженным взглядом.
Через гостиничный служебный вход они вошли в ресторан, в жаркое праздничное многолюдство и смелым шагом меж роскошных, сиявших белизной и нетронутостью, уставленных с обычным излишеством длинных пиршественных столов прошли в дальний угол, где их уже ждал отдельный маленький столик.
Они сидят, как братья-близнецы, блондины, сероглазые, с одинаковым перманентом, и чокаются чопорно, служебно, немного печально, пьют сладкий портвейн, небрежно закусывая соевыми шоколадными батонами, и загадочно, томно усмехаются, то ли тому, что они пьют, то ли тому, что они в этом зале одни знают.
Зачем они вызваны и по накладной, по перечислению выписан им портвейн и соевые батоны? Кто в первые часы Нового года отгуливает, веселится последние часы своей вольной жизни? Не за этими ли тремя, в глаженых костюмчиках, что сидят в отдалении, в одиночестве, на высоких круглых кожаных табуретах бара, активно чокаются и что-то грустно, чуть слышно бормочут друг другу? А это были мы, у нас не было пригласительных билетов, этих длинных глянцевых билетов с разноцветными елками и готическим шрифтом. Мы тоже прошли тем же внутренним ходом, будто жильцы гостиницы, будто только с поезда, с Дальнего Востока, и, когда били куранты и взорвался оркестр, сквозь фейерверк летящего на нас конфетти, стреляющих пробок шампанского проникли за толстую портьеру, и эту минуту ликующего крика, когда внезапно и сразу забываются все прожитые годы, все несчастья, потери, боль и тоска и есть только это наступающее, видное с вершины, под гром музыки, в короне жаркого света люстр будущее, сулящее, как и всегда и вечно, надежду на счастье, эту минуту мы пережидали неприкаянно, прячась за толстой портьерой, наедине с холодным ресторанным окном, глядя на немую, метельную Манежную площадь, по которой игрушкой катился мимо мертвых фонарей одинокий, пустой, замерзший троллейбус.
Но только стих первый шквал и поднялись из-за столов танцоры, мы вышли из укрытия и втроем, в мужской компании, привольно куря сигареты, с чувством приглашенных, которым надоело веселье, стали спускаться по лестнице в бар.
И тут, сидя на высоких, круглых, обитых хрустящей вишневой кожей табуретах, чокаясь бокалами, выпили шампанское за Новый год. Мы пили за тех, которых тут нет с нами, и шепотом, скорее одними губами, одними глазами произнося тосты, выпили за тех, которых берут этой ночью прямо от елок и праздничных столов, срывая ордена и медали, с мясом срывая погоны, а потом выпили за тех, на которых только сегодня выписаны ордера, а потом за тех, на которых только получены анонимные доносы. Так мы сидели и пили…
— Гражданин, вы кого ждете?
Передо мной стояла женщина-администратор в строгом темном костюме и батистовой блузке, резко и лишне пахнувшая духами.
— Вы кого ждете? — повторила она.
— Самого себя, — вдруг сказал я.
— Тут не положено.
— Что не положено?
— Гражданин, русским языком сказано — пройдите, а не то поговорим в другом месте.
— В каком же другом?
— Вы знаете, — сказала она.
Я встал и тихо вышел. Администратор-женщина проводила меня взглядом до самых дверей, и швейцар в фуражке с серебряной канителью, стоявший у дверей с заложенными назад руками, тоже проводил меня взглядом, и я вышел с чувством, будто я что-то украл или хотел украсть.
Фольгой сверкали снежные липы в сквере на Театральной площади, и сквозь медленно падающий в темном городе снег, как на картине прошлого века, стоял Большой театр с чуть подсвеченными колоннами.
Я прошел через заснеженный сквер, вдоль железной ограды которого вытянулась колонна длинных темных ЗИСов с кремовыми занавесками.
Нет, это не был веселый вечерний хаос, театральный съезд балетоманов. Это был строгий, почти военный, через определенные интервалы строй одинаковых, зеркально-лаковых, без единой царапинки, свободных, как дворец, лимузинов. Еще издали чувствовалось поле напряжения, отделявшее их от всего окружающего мира. Это были машины, спустившиеся с высокогорных дорог, с тех разреженных пространств, где нет регулировщиков, с желтыми фарами и окантованными в рамки парольными номерами, при виде которых земная трасса отдавала честь. Это были не машины, а аппараты, если кто приблизился, мог почувствовать не горелое смазочное масло, а чистое железо, шинельное сукно, аскетизм, всесилие.
Лимузины эти подкатывали к особому запасному подъезду и выходил один он, как бог, а потом его соратники цепочкой, как апостолы, и вокруг была пустыня улиц и стояла чуткая, намагниченная тишина.
Когда лимузины мягко сдвигались с места, рванувшись вверх желтым светом и лягушачьей сиреной, за ними с той же скоростью шли цугом „Победы" с моторами „мерседесов", и кавалькада проносилась бесшумно и молниеносно на зеленой волне спящего города.