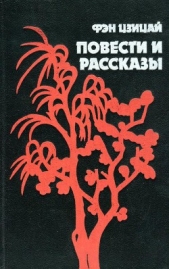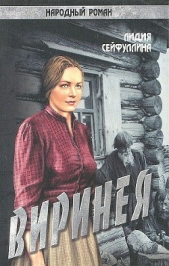Виринея (сборник)

Виринея (сборник) читать книгу онлайн
В книгу вошли лучшие повести писательницы, в которых отражены трудные, отмеченные смертельными схватками процессы революционной борьбы в деревне. В России, где большинство населения было крестьянским, они стали повсеместными и приобрели массовый характер. Эти повести принесли Л. Сейфуллиной известность не только в нашей стране, но и за рубежом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Для кого бесправно, а кого на права выволокет. Было бы по-старому дольше, много бы еще эдаких погубили! Как жили, в эдакой жизни не обучишь. А темнота, она злая.
Сергей Петрович пристально на него взглянул и смолк.
И дома вечером отцу Ванька вдруг сказал:
— Помнишь, городской-то приезжал зимой? А правду ведь он сказал: отменить деревню надо. Чтобы как город была, с машинами. Покос-от машины какой всему селу собрали.
Уборка сена коммунами Софроновой партии в селе силу дала. Два мужика богатых из Небесновки, Перегудов Антон и Лотошихин Павел, прошенье подали:
В большевицкую партию на селе Интернационалове по старым документам Тамбовско-Небесновском.
Граждан села Интернашганалова
той же волости Антона Михайлова Перегудова
и Павла Максимова Лотошихина
ПРОШЕНИЕ
Мы нижеподписавшие Антон Михайлов Перегудов и Павел Максимов Лотошихин к сему сообщенье докладываем, что есть у нас земля. У Антона Перегудова полтораста десятин, у Павла Лотошихина сто десять десятин. Но как мы поняли, что теперь большевицкая партия самая правильная, то желаем в ее записаться с малоземельными заодно в линию состоять от того, что старого монархизма не хочем. Сие собственноручным подписом скрепили:
Антон Перегудов
Лотошихин Павел.
Софрон на своем собранье доложил, и постановили в партию обоих принять, а так как они богатые, то откуп с них взять. Антон Перегудов должен сдать большевистской партии села Интернационалова двести пудов пшеницы, а Павел Лотошихин сто. Оба согласились и пшеницу через неделю доставили. В большевиках утвердились.
А смута в уезде только замерла. Тайными путями узнали небесновцы, что казаки готовы двинуться на большевиков опять и теперь упористей. Дали знать богатым тамбовским жителям. Глебов в станицу казачью на ярмарку съездил.
В престольный праздник, на Илью-пророка, все село во хмелю спать полегло. Десять вооруженных людей в темноте сторожко Софронову избу окружили. Софрон на дворе случайно был. Шорох услышал.
— Кто там?
Но крикнуть не успел. Рот заткнули и связали. Весь исполком в ночь захватили. Шум бабы все-таки подняли. Но, с помощью казаков, тамбовские и небесновские богатые мужики с местной охраной, ослабленной в последние спокойные месяцы, справились. Главарей большевистских переловили, а остальные хлеб-соль вынесли.
Еще рассвет чуть брезжил, когда связанных за село на расправу вытащили. Пробуждающийся день встретил гомон людей ласковым предутренним ветерком. Шевелил волосы на головах связанных. Будто ласкал в последний день. Худой и желтый Жиганов расправу начал.
— Что, Софрон Артамоныч, коммунами? Машины отбирать? Вот тебе за лобогрейку!
Плюнул в лицо и связанного Софрона под правый глаз жестким сильным кулаком. По глазу угодил. Залилась кровью синь его. Софрон рванулся, заревел. Гулко отозвалось поле на крик.
А Жиганов повалил Софрона и сапогами тяжелыми на животе его заплясал.
— Вот тебе за сгребалку! За дом мой! Вот тебе за хозяйство мое! Принимай уплату!
Сомлел Софрон. Водой отливали. Потом опять били. Избитых, измученных поставили на ноги и приказали:
— Пойте свой «Интернационал»!
Из двадцати девяти человек девять запели дико, как похоронную свою.
— Вставай, проклятьем…
Но осеклись. Софрон, еще живой, катался по земле и выл:
— Сволочи! Замолчите!..
Антону Перегудову двести отметин на спине шилом сделали. Жиганов хрипло орал:
— Вот тебе для счету: сколь пудов отдал!
Павлу Лотошихину сто. Редькина полумертвого выволокли из толпы. Растоптали сапогами.
Уж взошло жаркое солнце, когда двадцать девять человек в поганую отвальную яму кинули. Восемь живых еще ворошились под трупами. Всех завалили землей.
Артамона Пегих только в полдень рыжий казак нашел в стогу сена на гумне. Вытащил. Он тряхнул седыми волосами, будто выбивая из них сено, и спокойно спросил:
— Редькину-то, сказывают, дохрипеть не дали?
— Об себе думай! Сейчас тебя предоставлю, старый охальник!
— Ну-к что! Для внуков хотел еще на земле помаяться, а не довелось, дак ладно.
И покрестился истовым крестом на восток:
— Господи батюшка, прими дух большевика Артамона.
Его били долго, но еще живого на яму отвальную, доверху набитую, притащили. Осевшим, прерывистым голосом он протянул:
— Тута, значит, кровушкой полили… косточками сдобрили-и…
Прикладом казак прикончил его. Дарье Софроновой брюхо выпотрошили. Младенца свиньям кинули. Семьи большевистские вырезали. Только пятнадцать человек в погреб жи-гановский засадили. Глянуло страшное лицо деревни… Иван Лутохин, пророк небесновский, уцелел. На поле был… Когда вернулся, только нагайками поучили. Застегивая порты, он глухо сказал:
— Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавозили.
А Ваньку Софронова судьба укрыла. В город перед Ильиным днем уехал.
Виринея
I.
На сорок девятом году жизни Савелия Магару растревожил бог. Сразу, хваткой за сердце нежданной. В нехороший полночный час проснулась баба Савельева, глянула кругом по избе и охнула испуганно:
— Что-й-то ты, Савелий? Лик у тебя больно темен. Я и то проснулась, чисто в бок кто толкнул. Гляжу: и свет в избе не в час, и тебя на кровати нет. Чего ты? Животом заскучал, что ли?.. Аль еще как занедужил? Вон тамо-ка, на божнице, вода свяченая...
Савелий глянул сурово из-под лохматых бровей потемневшими серыми глазами, широкой рыжей бородой повел, передохнул так, что большие крепко сбитые плечи всколыхнулись. Прервал глухо:
— Не мешай! Виденье мне сейчас было. Неизвестного имя и какого перед богом чину — мученичьего ли, али преподобинского — не знаю, угодник мне явился... Стоит вот тут, будто, у стола и кличет сердито: Савелий Егоров Магара! Хил и росточку малого, немудрящий такой, а голос — ничего. Голосом на земского схож. Я со сну-то спервоначалу и не разобрал, что от бога это. Думал по земному делу расход. Тишком себе в бороду изругался крепко: что ты, думаю, пралик тебя зашиби, как это на меня земского нанесло? А внутре-то уж чую, что не земский. Чисто лед по кишкам, захолодал снутра, и по коже прямо пупырями дрожь.
Не столько самые слова, сколько обилие этих слов испугало старуху. Неохотлив он на разговоры, тяжелый у Магары язык. А тут вон как высказывает.
— А-а-ах, мамыньки! Свят, свят, свят! Владыко, царь небесный, господи!.. Слышь-ка, а може-то не угодник, а Стрепишихи-мордовки навод. Человек ты перед богом не заслужоный, не молитвенник. С чего к тебе угодник затрудится пойдет? Помолись да прочитай молитву хорошу. Вот: "Да воскреснет бог, и расточатся"...
Савелий цыкнул сердито:
— Не верещи поганым бабьим языком! Тише ты! Молодых в передней горнице разбудишь. А это дело тайное пока. Тебе сказал потому, что с тобой все грехи мои вместе нажиты. Угодник, тебе говорю. Богово имя поминал и приказал мне молиться с натугой, старательно. Бог в меня перстом ткнул. С того и холод внутре. Три раза виденье было.
Старуха заахала, кофтенку накинула, платком голову прикрыла и закрестилась часто, испуганно:
— Божа матушка, троеручица! Господи, батюшко! Свят, свят!..
— Погоди, не мешай! Не лезь бабьей плотью вперед, не погань мою молитву. Сичас сам молиться зачну.
Встал, тяжело согнул большое тело, упал на колени и бил поклоны до солнца восхода.
С той ночи и повредился сердцем мужик. Оно и раньше у Магары тяжелое было. Глаз редко веселый был и смеяться не умел. Гмыкал глухо в короткий веселости миг. А года в три раз накатывало: вином по долгому сроку зашибался. Во хмелю буйствовал. Крутил, ломал, бабу и детей своих жестоким боем бил. Старшей дочери слух перешиб. Так и осталась на одно ухо глухая, да пугливая. Часом заговаривается вроде дурочки. Но отводил срок и остальное время правильно жил. Люди уважали за крепость хозяйственную, за добычливость. А теперь совсем по-другому все поворотил. Большое хозяйство на зятя, за младшей дочерью в дом взятого, бросил. Глядя поверх головы зятевой, сказал ему веско и строго: