Благодарение. Предел
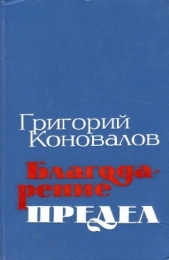
Благодарение. Предел читать книгу онлайн
В книгу Г. Коновалова, автора известных произведений «Университет», «Истоки», «Вечный родник», «Былинка в поле», вошли два романа — «Предел» и «Благодарение».
Роман «Предел» посвящен теме: человек и земля.
В «Благодарении» автор показывает и пытается философски осмыслить сложность человеческих чувств и взаимоотношений: разочарование в себе и близких людях, нравственные искания своего места в жизни, обретение душевной мудрости и стойкости, щедрости и чистоты.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну хоть малость самую раздвинь завесу над душой, а? Ведь ты все блудила словами…
Она так распахнула кофточку, что грудь с крупным соском упруго выколыхнулась на свет божий. Но тут же Серафима запахнулась.
— Не думай, что я очень уж хочу с тобой сойтись. Все, больше никогда я тебя не увижу. Если я тебе нужна, признайся сейчас. Ночью разбудишь, плохо тебе будет.
— Да как же я разбужу, ты что?
— Да очень просто. Сплю рядом, в дверь замок не врезала пока. Ложись, спи.
Ночью, близко к свету, Истягин вышел на веранду. Под тугим с моря ветром стояла Серафима в розовой рубашке. Не уступала ознобу, лишь легко холодели голые руки и шея — высокая, сильная. Ветер откинул волосы, во впадинах под нежными скулами тени — не то гордости, не то отчуждения. И хоть почувствовал, что явился не ко времени, он накинул на ее плечи пиджак.
Невнятно бормотал он: приснилось, что душа ранена навылет снарядом главного калибра, всю душу вынесло, остались только краешки тоненьким ободком…
— Антон, что ты бормочешь? — Серафима прислонилась щекой к груди его и тут же отпрянула: жаром несло. — Жар у тебя, Антон.
— А хорошо-то как, тепло. Эх, подольше бы так вот в тепле побыть. Зябнул я последнее время. Прежняя закалка уже не срабатывала. И туман хороший в голове.
Серафима принесла градусник и, приподняв под локоть тяжелую руку Истягина, сунула под мышку. Внимательно глядела на присмиревшего.
Быстро успело набежать тридцать девять с половиной. Серафима вдруг отпрянула, попятилась за дверь, потом потянула Истягина на себя, втолкнула в его комнату, а сама исчезла.
Снизу от реки подымался по лестнице человек. Истягин уже из отведенной ему под ночлег комнаты разглядел его — седоватый, румяный, крепкий. Портрет его в газете Истягин видел прежде.
Истягин положил градусник на тумбочку, потом взял и воткнул в землю под цветком, потом — вынул, обтер подолом рубахи, положил на раскрытую книгу. И хоть жаркий туман, казалось, вился вокруг головы, Истягин тише предутреннего ветерка снялся с якоря.
Пока его не было дома, черно-белая Найда (шакаленок), вскинув острую мордочку, всю ночь выла обреченно.
Макс Булыгин манил ее к себе, успокаивал. Она умолкала, но от истягинского дома не отступала. А потом снова заходилась вытьем. Когда увидала лодку хозяина, она бросилась вплавь навстречу. Он ее схватил за уши, поднял к себе. И на берегу она, такая маленькая, с рукавицу, подпрыгивала чуть ли не до груди Истягина, взвизгивая.
Дети пока находились у Клавы Булыгиной. Истягин, все в том же состоянии внутреннего жара, сидел в своей сторожке-фанзе, чинил сети очень ловучие. Хотел подарить их Максу на память.
Макс уволился с флота, работал кадровиком в институте, и сети ему сгодятся.
Бросив сети в угол, Истягин сел за столик (две доски) перед оконцем, и Найда легла у ног, вздохнув по-бабьему, в свою очередь успокаивая хозяина. «Давай работай», — вроде бы сказала она, подмигнув обоими глазами, и потом зажмурилась. Он просмотрел выписки из древней рукописи — наставление, как рубить храмы по законам душевной прочности. Чем-то близок был древний мастер с чуткими к правде руками, широк доверчивостью.
Истягин улыбнулся, как будто перекликнулся с братом или отцом, положил выписки на книжную полочку — две свежеоструганные лиственничные доски, пахнущие таежными привольными сумерками. Потом развернул клеенчатую тетрадь, чтобы записать самое необходимое — как не мешкая уехать к Голубой Горе.
Найда, лежавшая у ног Истягина на полу, вдруг заметалась, полезла под кровать, путаясь лапами в сетке. За оконцем взмыл дикий предсмертный взвизг и тут же замер.
Истягин расплескал горячий чай на усы и колени. Выглянул из сеней. Крупный старик Маврикий Сохатый тащил на удавке двух собачат, они кувыркались, и перед глазами Истягина мелькали их белые подгрудки.
Сохатый придавил сапогом вздрагивающее тело кобелька, потянул удавку.
— Ну, мыслитель, убери. Нащенила приблудная сучка под дачей.
Дрожь пошла по спине Истягина. «Кажется, такая же, как у собачат», — подумал он с мимолетной озлобленностью на себя.
— Вона она, сучка-то, завывает… Ружье дай, караульщик.
— Нет патронов, — отрывисто бросил Истягин, глядя в сторону.
— Ну и страж. А если воры? Гороху ешь побольше, напугаешь… — Грубость Сохатого была примиряющая, неуверенная.
— Патроны не держу. Как бы не застрелить кого…
Сняв удавки, Истягин отнес бездыханных кутят под ясень, прикрыл брезентом. Спугнул ворону с дерева.
Сохатый, присев на корточки, мыл руки в реке. И отсюда, с каменного плаца, казался он в своем плаще серым валуном.
Истягин постоял, успокаиваясь, сбивая внезапную ожесточенность. Понимал умом, что старик Сохатый неповинен, а все-таки именно он, удачник довольный, нарушал грустный в лихорадочном жару покой. Озираясь, шевеля немо губами, Истягин вошел в избушку, выманил из-под кровати Найду, взял на колени и, поглаживая, глядя в ее печально поумневшие от испуга глаза, поунял дрожь.
— Не пугайся, нам еще рано… Поживем. — В этих вроде бы первопопавшихся словах были неказистый форс и самое первородное горе горькое. Но в это время что-то огромное заслонило солнце в открытых дверях. Истягин и Найда, оба, враз, обернулись на дверь.
Кто-то переступил порог. Срезанная прямыми плечами, раскололась за кем-то синева неба. Вошла крупная женщина.
— Не зарыл псов, отдышались, убежали. Ох, лень обуяла тебя, Антон Коныч. Но, видно, суждено им жить… Пусть бегают. Я к тебе зачем? Спросить: почему ты чудишь? То есть — ассистент и сторож. Я посижу, а ты подумай: кто ты такой?
Казалось, вот уже много лет самоуверенная женщина эта вела с ним беседы вокруг да около, вслепую кружила у самого зыбкого в душе, очевидно сама не подозревая, что Истягин начинает вскипать изнутри.
— Познакомимся заново: Антон Истягин, отец трех сирот, если не считать четвертую — дочь Нину…
— Антон Коныч, а ведь ты, пожалуй, не догадываешься, почему я волнуюсь за тебя вот уже много лет.
— То есть в душу лезешь. Знаю!
— Ну, коли такой прозорливый, ответь мне прямо: почему ты не в мать, не в отца, не в прохожего молодца? Отец твой был крепок и чист. Уж как его припирали свои же: подпиши, чтобы япошки отвязались. Не тут-то было. «Надо расстрелять — стреляйте, а подписывать не буду!» Так-то вот. А ты, Антон, кто? Вроде не совсем дурак, а движения вперед нету.
— Думаете, легко получить мое признание?
— Не о том я! Ушли времена легких признаний. Ох и хитер ты, Истягин. Загадочный тип. Много о тебе всякого говорят… Ты уж лучше сам мне расскажи, кто ты сейчас в новом качестве? Ведь по одним данным на тебя дело надо заводить, а по другим…
— Награждений не жду. Невтерпеж, хочется допросить меня?
— Нехорошо шутишь с допросом-то, Антоша. Простая беседа в привычной форме анкеты — эпоха приучила к анкетам, потому что без учета и статистики жить человеку невозможно.
Собеседница ходила от окна к двери мягким шагом, поскрипывая лакированными остроносыми туфлями, лица же ее пока не было видно, но чувствовалось, что оно необыкновенное, редчайшее по безликости, собирательное, лицо вроде бы эпохальной значимости.
— Все знаю о тебе, Антон Коныч.
— В этом и сила мещанина, что он все знает о соседе, а в самом себе безнадежно блуждает, — отрезал Истягин, но тут же решил: надо с нею поспокойнее, она, возможно, та самая, которая является человеку раз в жизни, ну, вроде судьбы. Да и ждал ее он.
— Знаю все! Из каждого уголка существа твоего так и веет отчуждением от человечества. Не понимаешь эпоху, но и эпоха в таком случае не будет стараться понять тебя, а просто пройдет мимо. Со спокойствием господствующего большинства. Большинство какое? Подавляющее. Навалится всей тяжестью правоты — мокрое место от меньшинства останется, то есть от тебя, Антон.
— Твоим друзьям из большинства не по себе лишь оттого, что кто-то хоть маненечко побольше ихнего видал. И совсем уж теряют равновесие, если хоть чуточку по-своему понимаешь жизнь. Да не всю, а лишь отдельные ее моменты. Ну хотя бы сам свою жизнь. Один умнейший и лютый человек говорил мне: «Зачем ты раскрываешься перед н и м и? То есть перед ней и ее друзьями. Ты должен быть тайной для н и х. Они же ведут войну с тобой — необъявленную, истребительную. Нет, не убить, не заточить, а тоньше: посмеяться или смарать тебя». Я спросил его: «Зачем же смарывать? Я зла не делаю». Он даже крайне удивился: «Как — зачем? Воюют за тебя против тебя. Уравнять. Если не дорос, довести тебя до кондиции, до своих параметров, до своей калибровки. Если излишества в тебе — срезать, умять. Но все с тем же благородным намерением — поднять до с е б я». Исключительность и м не по карману. Да и поднадоела, вредна для здоровья общества. Пусть исключительность и самобытность примут форму безликости.


























