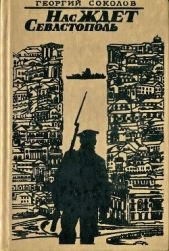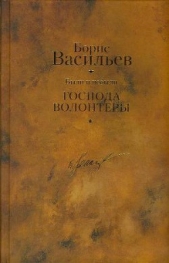Севастополь

Севастополь читать книгу онлайн
Роман классика социалистического реализма, русского советского писателя Александра Георгиевича Малышкина (1892—1938) воссоздает революционные события 1917 года на Черноморском флоте. На примере главного героя Сергея Шелехова автор на фоне великих исторических перемен прослеживает судьбу передового интеллигента, молодого офицера флота, мучительное и сложное преодоление им остатков старого мировоззрения и в конечном итоге приход в революцию, к восставшему народу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
I — Девушки, на катер ба!
— На катере перетопнем, куда — а!
Матросы, заслышав, плутали назад:
— Не пойдет катер, бабы, ето называется двенадцать баллов.
I — Ночуй, крали, с нами!..
— Айда в кубрик, на подвесную… качнем!
Буря перевертывала, заставляла не идти, а падать назад спиной… Кое‑как нащупал ступеньки знакомого трапа, вполз наверх, впиваясь пальцами в фалреп. В лицо покалывали первые дождевые капли. «Качу» глухо шатало с боку на бок. И только успел раскрыть дверь каюты, как ливень хлынул по спардеку гневным, дремучим гулом…
Неизвестно, задремалось ли потом, но до сознания смутно и последовательно доходило все, что делалось за тонкой дверью, в пространствах палубы, мрака и ливня. Мимо то и дело топали бегучие, встревоженные ноги. Под Севастополем случилось несчастье с катером, который никак не мог ошвартоваться у пристани. Под натиском бури лопнул якорный канат, и катер, боясь разбиться о берег, так и не пристал, а пошел обратно в штормующее море и где находился — неизвестно. С севастопольской пристани кричали в телефон; в бухте под ливнем метались по берегу с фонарями, сигналили в темноту невидимому катеру. У «Трувора» и «Витязя» сорвало и унесло в море сходни, и матросы, возвратившиеся с вечеринки и отчаявшиеся пробраться на мечущиеся, захлестанные прибоем тральщики, толпой привалили на «Качу», а сбившиеся с ног старший офицер, вахтенные, тоже грязные, облипшие от дождя, будили тусклые от ночника, впросонках матерящиеся кубрики, размещали там бездомных…
Над Черным морем буйствовал шторм.
Около полуночи к Шелехову тихо постучались. То был Лобович, осторожный, извиняющийся:
— Вижу свет, думал…
— Нет, нет, не сплю еще, присаживайтесь, Илья Ан- дреич. — Шелехов с любезной готовностью поднялся на койке.
— Да где присаживаться, видите, обмок, как курица. Такой тарарам получился… А каюта теперь у вас хороша, хороша! Не ушел бы я с «Качи» на вашем месте.
— Нет, уйду, Илья Андреич, решено.
— Потом я скажу: сейчас к матросу надо ближе быть. Время такое, что всех ребят может заломать. Матроса жалеть надо. А на плавающем — там работы на вас навалят.
— Я решил твердо, Илья Андреич. И от матросов я никуда не отступлюсь.
— Ну, ну, — со вздохом махнул рукой Лобович. — Что же, канатом вас насильно не привяжешь. А у нас… неприятность, Сергей Федорыч, большая: сейчас внизу с вахтенным офицером радиограмму расшифровали…
— Какая? — встрепенулся Шелехов.
— Миноносец на мину напоролся у Фидониси. Миноносец «Зацаренный». Вчера ночью…
— Позвольте… «Зацаренный»? — перемогая внезапно подступившую сладкую тошноту, переспросил Шелехов. — Ну, а как же… спасли?
Лобович снисходительно усмехнулся:
— Ну… где же спасли! Не одна мина была, а букет… так называется. Немецкая штучка. Когда букет, от корабля — только пар.
— У меня там товарищ был, Софронов, по школе… Значит, пар?.. — лепетал Шелехов.
— Наших качинских двое ребят там, зимой еще списались, смирные ребята. Так зря, так зря все это…
— И видал‑то я его недавно, — твердил про себя Шелехов. — Софронов, он всегда чудной был, тяжелый…
— Я от неприятности к вам зашел, больше некуда, все спят… А выходит, и вас расстроил. Вы спите, спите… война, ничего не поделаешь! Жизнь — полушка, Сергей Федорыч, что над этим мозги зря крутить.
Через распахнутую дверь слышалась бурная капель и подбортное ветровое неистовство. Шелехов с болезненной поспешностью погасил огонь и зарылся головой в подушку. Он еще не успел продумать, назвать про себя какую‑то гнетущую грозность — не то что не успел, а нарочно хотел упастись от нее, проскользнуть в сон. Потом, потом…
А Лобович, рассыпая в ветер искры своей трубки, прошествовал в каюту, аккуратно переоделся там в сухое и, услышав, что вахтенный матрос скучливо плутает по палубе, зазвал его к себе. Лобович медленно приминал пальцем пепел в трубке; вахтенный Кащиенко, похожий в своей нелепой бескозырке на китайца, скрутил из офицерского табачку цыгарку. Оба молча и раздумчиво попыхивали дымком.
За полночь переваливало.
— Бывало так, — рассказывал Лобович про какие‑то далекие, может быть, и сказочные времена, — бывало, когда идешь пароходом в такую заварушку, то первое дело, Кащиенко, бойся, брат, за груз. Груз правильно уложить — это не гашник завязать! Чтоб не болталось, чтоб самое, что потяжельше, подгадать на низ, да так, чтобы в первом же порту пулей можно было сгрузить, что требуется.
Лобович был из торговых моряков.
— Я думаю, Илья Андреич, за эту бурю, — ответил, насасываясь приятным табачком, вахтенный, — дожжи она надует до самого Катеринослава. Бакча от етого взопреет и в гущину пойдет. И скажите, что там одна баба может справить?
Вахтенный вдруг испугался и поморгал на офицера осторожно: не сбрехнул ли грехом несуразное что… Но Лобович продолжал слушать с приятной внимательностью, и слушать и отсутствовать, потому что под усыпительный дождь очень мирно и успокоительно дымили пароходы, пароходы из бывалого, высокие черные красавцы с огненной ватерлинией, гости крымско — кавказ- ских и океанских путей, и боцманы сипло орали «майна», и весело наступала из тумана пестрая дымная портовая кипучка. Вахтенный успокоился, пососал еще дымку.
— От етого в усем государстве и питания плохая пошла, что одна баба на хозяйстве сидит. Что она, баба! Вот у Севастополя у кондитерских и то хлеб — от… серый. Болтали тут, Илья Андреич, насчет пятого года, что дебилизация… зря, наверно?
Лобович горько кривился.
— Да что пятый год!.. Все надо кончать, Кащиенко. — Офицер осторожно наклонился к плечу вахтенного. — Обо…лись, брат, хуже русско — японской. Хуже!.. И ведь там… энти… знают, сукины сыны, про это, а тянут свое. Дождутся, Кащиенко, победного конца. Э, да что говорить! Вчера опять вон неприятность вышла…
— Какая? — полез ухом вахтенный.
— Да… чего там! — смутился разоткровенничавшийся Лобович. — Кажется, затихло? Ты бы сходил в камбуз, косточек мне притащил бы, остались, наверно.
Вслед за вахтенным и Лобович, надев кожан и старую фуражку, спустился на нижнюю палубу. Слабеющий дождь названивал о воду в забортной тьме. Лобович, прежде чем сойти на берег, заботливо заглянул, — он делал так каждую ночь, — в ночниковые сумерки матросского кубрика. Там все было спокойно, уютно выхрапывало в несколько тонов, отдыхало здоровяцкое матросское тело, нагулявшееся, натрудившееся, намитинговавшееся за день. Лобович постоял с минуту над этой бездомной колыбелью и, съежившись, отвернулся; щекотная теплая слеза скатилась через щеку, обмокрила щеточки английских усов, поспешно и сердито облизанных. На палубе вахтенный подал ему охапку обглоданных костей, завернутых в газету. Офицер нахлобучил башлык, взял кости и полез по трапу в тьму.
Парная мгла вздымалась с остуженной дождем земли. Луна, непогоже просачивающаяся из облаков, бежала в теплых болотцах по мостовой, обнаруживала мутные громоздкости береговых сараев, за ними — сказочную горбину какого‑то несуществующего пригорка. Лобович, нащупав знакомое место, остановился, высыпал кости на землю и свистнул! И тотчас же радостным, жадным брехом откликнулось то там, то сям в темноте, и чуть ли где‑то еще не за версту шурхала грязь под невидимо отмахивающими ногами, екали задыхающиеся глотки. Откуда‑то вырвалось с полдесятка одичалых, мокрошерстных псов, крутились возле человека, ломились к нему на грудь с остервенелой лаской. Лобович едва успевал отталкивать их ногой.
— Цыц, цыц!.. Довольно, жрите, чертяки!.. Ну вот, вот, ослеп, дуралей — псина!
Собаки, оставив его, пали на кости, скатились, грызя друг друга, в одну урчащую, ощетиненную кучу. Человек терпеливо, с притворным гневом разнимал их, расшвыривал кости в разные стороны, указывал добычу тем, которые метались зря. Человек стоял, очень довольный, среди этой свалки в нахлобученном башлыке. Так было каждую ночь. И темная отштормовавшая земля, изъязвленная войной и смятениями, чувствовалась — сквозь одинокую, сиротскую человечью жалость — населенной одинокими близкими, она смутно, но неукоснительно подвигалась к добру.