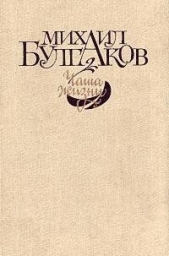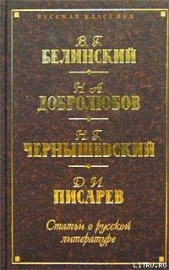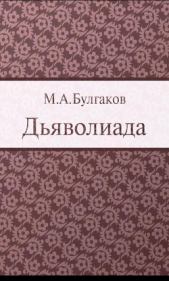Том 3. Дьяволиада

Том 3. Дьяволиада читать книгу онлайн
В третий том настоящего Собрания сочинений вошла ранняя проза М. Булгакова: повести, рассказы и фельетоны 20-х годов. Основу тома, безусловно, составляют повести «Дьяволиада», «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Особое внимание уделено работе М. Булгакова над текстом повести «Собачье сердце».
Том снабжен обширным комментарием.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось,— выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью «Экстренное приложение», посредине которого красовался яркий цветной рисунок.
— Нет, выслушайте, что они сделали,— в ответ закричал, не слушая, Персиков,— они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!
Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.
— Так вот что,— задыхаясь, забормотал он,— теперь я понимаю… Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте.— Он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей.— Кто это, по-вашему, Владимир Ипатьич?
Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:
— Что за черт. Это… да это анаконда, водяной удав…
Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:
— Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур, и, вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!
— Что такое? — ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым…— Вы шутите, Петр Степанович… Откуда?
Иванов онемел на мгновенье, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:
— Вот откуда.
— Что-о?! — завыл Персиков, начиная соображать.
Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:
— Будьте покойны. Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.
— Боже мой… Боже мой,— повторил Персиков и, зеленея лицом, стал садиться на винтящийся табурет.
Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:
— Ну, теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте,— и он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа: — «Змеи идут стаями в направлении Можайска… откладывая неимоверные количества яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде… Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения… и отряды Государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов…»
Персиков, разноцветный, иссиня-бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:
— Анаконда… анаконда… водяной удав! Боже мой! — В таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.
Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.
— Анаконда… анаконда…— загремело эхо.
— Лови профессора! — взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте.— Воды ему… у него удар.
Глава XI. Бой и смерть
Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей четыре миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали, и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланным гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал через каждые десять минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы — это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и бренча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов Народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью: «Осторожно. Третьяковская галерея». Машины рявкали и бегали по всей Москве.
Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара, и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек.
Под утро по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея Конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.
— Да здравствует Конная армия! — кричали исступленные женские голоса.
— Да здравствует! — отзывались мужчины.
— Задавят!! Давят!..— выли где-то.
— Помогите! — кричали с тротуара.
Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:
— Короче повод.
Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры, в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны-автомобили с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью: «Газ. Доброхим».
— Выручайте, братцы,— завывали с тротуаров,— бейте гадов… Спасайте Москву!
— Мать… мать… мать…— перекатывалось по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение: