Сито жизни
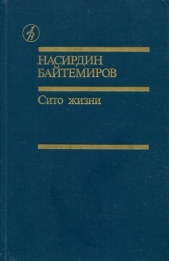
Сито жизни читать книгу онлайн
В книгу киргизского писателя вошли два романа: «Сито жизни» и «Девичий родник». Главный герой романа «Сито жизни» Серкебай много лет руководит колхозом, его уважают в аиле и в районе, но вот к нему приходит прошлое… О сложной судьбе героя рассказывает Н. Байтемиров. Второй роман, «Девичий родник», повествует о любви девушки Керез и джигита Мамырбая. Здесь мы опять встречаемся с персонажами романа «Сито жизни».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ты оставила меня одного, Зардеп. И что получила взамен? Выдали замуж? Ты ушла, не испытав жарких объятий, ты ушла, не дав разгореться огню любви. Я счастлив. Всю жизнь согревает меня пламя моей любви. Каждый день я жгу можжевельник, вижу яркое пламя. Можжевельник горит? Нет, это моя любовь. Я затвердеваю, все мое тело прокаливается на огне. Ясное небо, крутые скалы, снежные пики подобны мне. Как и я, вглядываются в даль, помня несбывшуюся мечту. Я никогда не найду Зардеп, они не отыщут меня, случись мне понести кару и умереть. Меня знает ель, знает кайберен [29], знают звезды на небе, — все привыкли ко мне, все скучают, не видя меня. Скалы оживляются, если жгу среди них уголь. А ночью, когда ложусь отдохнуть, приходят облака, обволакивают меня. Или облако, приняв образ Зардеп, кокетливо смотрит с того хребта — смотрит, не показывает свое лицо…
Вот что узнал я ночью, слушая Комурчу. Я удивился. Я обрадовался трогательному богатству жизни этого ссохшегося человека. Только тогда я понял — ему действительно перевалило за шестьдесят. И, поняв, я стал ругать самого себя. Я думал об Аруке. Аруке — это была жена, достойная похвалы. Словно падающая звезда, сверкнула на небе и исчезла, где, когда теперь увидишь ее… Любил ли я ее? Не знаю. Но понимал, что такое любовь. Вот этот старый человек рассказывает о тайне любви. Человек, испытавший любовь, оказывается, твердеет. И хотя он становится твердым, но не стареет. Он закалился в огне любви.
Комурчу тронул поводья, бык зашагал в гору.
— Кто здесь?
— Я…
— Садись на заднего быка.
Он не посмотрел на меня, не оглянулся. Продолжал бормотать что-то себе под нос. Кое-что из сказанного я понимал, но многое — нет.
Я взобрался на быка. Бык как будто зашагал веселее, рысцой догнал переднего, поравнялся с ним. Я приветствовал старика. Он не ответил. Подумал, что он не расслышал, я повторил приветствие. Он опять не принял мой салам, он говорил сам с собой:
— Когда-то был и голос, была молодость — все осталось в этом ущелье, в этих горах. Все дают горы, все забирают горы. Гора — она подобна человеку, у нее тоже есть детство, молодость и старость. Ох, сколько скал разрушилось на моих глазах, сколько родилось обрывов! Разваливаются, разрушаются, нарождаются снова. Что видели сегодня, завтра уже не увидим. Таков этот мир. Я забыл, сколько лет уже не сплю. Много лет… Нет большего счастья, чем сон. И сон мой забрала Зардеп. Семьи нет, забыл, что такое мягкая постель, — задремлю верхом на быке или приткнусь возле камня — вот весь мой сон. Нет у меня и смеха, его тоже забрала Зардеп. Все забрала с собой, не смогла взять одну только любовь, не смогла сломить мою волю… Человеку, который не спит, подходит занятие угольщика. Нет друга выше огня, я не видел ничего храбрее огня. Он греет, он дает тебе силы, он поет тебе, — он твой товарищ…
Киргизы говорят, ночь принадлежит бедняку. Бедняки — это мы.
Ветер и Комурчу говорят оба сразу. У обоих много слов. Эти слова кажутся мне сказкой. Я благодарен старику. Я восхищаюсь его энергией. Увидеть столько горя и совсем не состариться! Я сравниваю себя с ним. Посмотреть — будто он ненамного старше меня. Я думаю, что бы я сделал, полюбив без ответа. Разве бы вынес горе достойно? Хорошо, что я никого не полюбил. Я думаю, что лучше совсем не любить, если любовь будет всю жизнь давить, мучить, если сделает человека одиноким, высушит, как Комурчу. Я понимаю — для любви нужно иметь большое сердце.
Это песня Комурчу, это песня влюбленного, это моя песня. Я не любил. И хотя я не любил, все же та песня — моя. Когда мы корчевали пни можжевельника, когда разжигали огонь, когда сидели, глядя на пламя, когда везли уголь, Комурчу пел много раз. Он пел, а я не уставал слушать. Главное было — не его тонкий высокий голос, главное было — сама песня. Эту песню слушал не только я — и огонь, и река, и скалы. Пернатые умолкали, слушая песню Комурчу. Ели и можжевельник задумчиво кивали. Эту песню слушали ушедшие из жизни, ее слушало само время. Да, правда, само время, приостановив свой бег, слушало Комурчу.
Я забежал немного вперед…
Мы добрались до места под утро. Светало не на востоке, а прямо над головой, над вершинами двух скал, сблизившихся настолько, что казалось, они вот-вот обнимут друг друга. Рассвет лился по скалам, по стройным стволам елей, смешивался с белой струей ручья, прыгавшего по камням.
Комурчу, как только мы сошли с быков, взвалил на плечо крепкий тяжелый молот, подхватил топор и направился к лесу. Быки остались щипать траву, я последовал за стариком. Если он приближался к ели, становился похожим на ель; приближался к камню, становился похожим на камень. А когда подошел к пню — будто сам превратился в пень.
Торчащие корни можжевельника наблюдали за ним, высунувшись по пояс из-за серых камней. Ждали. Комурчу, видно, давно уже прикинул, давно рассчитал в душе, какой пень и когда выкорчевывать. Сейчас прямо подошел к одному и остановился. Пень ожидал, забившись в трещину посредине большого белого камня. Старик пошевелил губами, что-то бормоча, будто упрашивал какую-то силу, затем размахнулся молотом — пень качнулся, вывалился, покатился, оказался близко к тому месту, где мы оставили быков. Что это, сила или сноровка? Каким образом старик выбил пень одним ударом? Все для меня — загадка.

Я внимательно стал смотреть. Если не приглядеться, и не поймешь, с какой силой он бьет. Однако когда его молот опускается, пень, который нужно выкорчевать, начинает качаться, будто бы сам по себе, будто сама скала выталкивает его.
Когда он бил по какому-нибудь пню, разрушался и камень. Камни взлетали вверх, рассыпались, исчезали: оставались только пни, которые я оттаскивал вниз. Старик совсем не уставал, не потел, не отдыхал. И пока он корчевал пни, не умолкал все тот же его голос, все та же песня.
Он учил работать, сливаясь воедино с камнем, со скалой, учил быть сильным, учил не знать слабости.
Пролетали дни, складывались в жизнь. Изменились мы, изменилась гора. Мы боролись с горой. Мы разжигали огонь, разжигали сердце, разжигали надежду. Мы разжигали огонь днем, ночью, на рассвете, в сумерки. На огонь, который мы разжигаем, смотрит скала; если нас нет, если нет огня — скала скучает, чувствуя наше отсутствие, глядит выжидающе, мрачно. Ель, можжевельник, рябина, горы и камни — все спят, никогда не спит Комурчу. День и ночь он в движении, не зная усталости; он кажется мне хозяином, душой этого мира; иногда он, маленький, еле заметный, сидит возле костра, нещадно подставляя себя пламени, я вижу — еще немного, и загорится, как можжевельник, но ему хоть бы что, даже не потеет.
Мы сваливаем выкорчеванные пни в глубокую яму и разжигаем огонь. Смолистое дерево потрескивает, взлетают искры, лепятся по склону скалы. Кажется, и скала вспыхнет сейчас ярким пламенем.


























