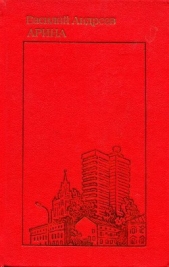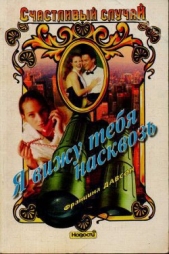Арина
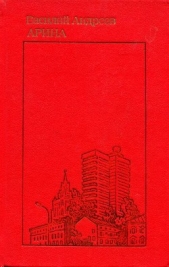
Арина читать книгу онлайн
Новая книга Василия Андреева состоит из романа «Красное лето» и двух повестей, в которых писатель поднимает насущные социальные проблемы города и деревни, раскрывает нравственный мир наших современников; приспособленцам и проходимцам противопоставлены честные, трудолюбивые люди с сильными характерами.
Добро вечно, как вечна жизнь на земле, утверждает писатель своими произведениями.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вы, Зоя, как освободитесь, сразу — ко мне, — торопливо сказал он Шурыгиной, уходя из зала. И тут же обернулся, добавил: — А потом ты, Глеб Романович, загляни.
Скоро без стука, как всегда, вошла Зоя Шурыгина, встала перед ним, губы сжала, недобро сверлит его черными глазами, ровно преступника встретила. Руки сложила на высокой груди и молчит, ждет, что он скажет. И без прибора пришла, стало быть, брить его не собирается. Да, нашло-наехало на бабу. Ведь лучшего хотел дурехе, разве помехой стал бы ей лишний рубль. А вот возьми убеди куриную голову, если эта чертова честность у нее раньше самой родилась. Выходит, дал он промашку, не такой оказалась Зоя. Зная ее слабость заглядывать в рюмку, думал, просто с ней сговориться, а она вон как тогда на дыбы встала. Едва ноги унес от малахольной бабы. И все-таки сейчас нельзя дело вести к разрыву, надо уладить все по-тихому, прикинуться, что ничего он не помнит. Мало ли что может, мол, наговорить человек во хмелю, и ей не стоит об этом думать, надо забыть его пьяный бред.
— Вот хочу спросить тебя, Зоя, — начал Костричкин, делая озабоченным лицо. — Скажи мне откровенно, с глазу на глаз, что я в тот раз натворил у тебя? Посуду, может, разбил, поломал чего?.. Я гляжу, ты вроде сердишься, а за что, не знаю. Утром на другой день ты что-то намекнула по телефону, но я не понял… Я ведь нездоров был, и сейчас вот в животе будто клещами кто сжимает. Аппетит всякий пропал, третий день в рот ничего не беру. Да жарища проклятая совсем доконала. Тогда я, так сказать, с радости, что к тебе пришел, выпил стакан на пустой желудок, ну и готов, разом всю память отшибло, — он потрогал затылок, с печалью в голосе пояснил: — Вот в этом месте, прямо гудом гудит, как только лишку приму не то по глупости водку с пивом смешаю… Так что ты все теперь слышала и, пожалуйста, не носи камень за пазухой, не сердись, словом, на меня.
— Ну, веселый человек!.. Уморил ты меня!.. — неожиданно рассмеялась Зоя и нарочно выпятила грудь, плотно прижалась к его плечу. — Скажите на милость, память у него отшибло!.. Давай, давай, ври больше. Только зря напрягаешься, я насквозь тебя вижу. Ты как позвонил мне тогда утром, я сразу подумала, значит, мужик в штаны наложил. И точно, так оно и вышло…
Костричкин вскочил с кресла, обидевшись, сказал возмущенно:
— Чего ты все придумываешь!.. Я о тебе беспокоился. Утром проснулся, смотрю, дома я. Но как от тебя уходил, как оказался в своей квартире, убей, не помню. А что там с Зоей, думаю…
— Жуть прямо, как трогательно!.. — усмехнулась Зоя с издевкой. — Но ты не бойся, я не буду тебя выдавать — мне противно это. Я себя пока уважаю.
Ему это и надо было услышать от Зои, главное, чтоб она язык за зубами держала, не сказала кому про тот случай. Стало быть, как он задумал, так все и повернулось. Пусть Зоя немного покуражилась (на то она и баба), да разом и обмякла, смекнула, некуда ей деваться, против начальства шибко не попрешь. И Костричкин, поглаживая подбородок, усеянный редкой щетиной, уже сказал Зое спокойно:
— А ты брить меня думаешь?..
— Ладно, так и быть, побрею, руки у меня не отвалятся, — без всяких чувств сказала Зоя. — А на другое можешь не рассчитывать. Хватит, больше я не буду такой дурой. — И Зоя пошла, неся высоко грудь, за прибором.
Перед обедом гладко выбритый Костричкин нервно вертелся в массивном кресле и заранее подыскивал слова, какие он скажет Кате Воронцовой, когда та войдет в его кабинет. Еще несколько минут назад он велел уборщице передать Воронцовой, чтобы она, как освободится, зашла к нему, и вот теперь ждал ее, замирая и прислушиваясь к голосам и шорохам, возникающим за дверью. Одновременно он поглядывал на часы, и ему казалось, что красная секундная стрелка слишком вздрагивала и бежала быстрее обычного, буквально в мгновенье описывала круг циферблата, и летели минута за минутой, а Воронцовой все не было.
«А если она совсем не придет? — вдруг прошила его голову безрадостная мысль. — Не то явится в придачу, скажем, с Ниной Сергеевной, своей радетельницей и защитницей, чтобы я своим действием не оскорбил ее любимую Катю, это «чистое невинное создание»? Что тогда я будут делать?..» Он опять посмотрел на часы, но, разволновавшись, не мог понять, что показывала минутная стрелка, вернее, видел, она подползала к единице, но забыл, где была раньше, когда просил уборщицу позвать Катю. Тогда он схватил телефонную трубку и набрал цифру сто. Сиплый женский голос ему ответил, который был час. Костричкин стал что-то прикидывать в уме, шепча вслух названные по телефону цифры, а потом понял, что это все равно ничего не даст ему, и зло выругался. И в то же мгновенье он вздрогнул: кто-то негромко, но уверенно постучал в дверь. «Наконец-то!» — с облегчением выдохнул Костричкин и громко крикнул:
— Войдите!
Как он и предполагал, это была Катя. Прикрыв без стука за собой дверь, она чуть прошла к окну и остановилась, вся в какой-то напряженной собранности. Ее крытое нежной смуглиной лицо выражало холод и отчуждение, а большие широкие глаза с пугающей строгостью смотрели мимо него, в сторону окна. Но даже при этой холодности лица она была так одуряюще красива, что Костричкин, глядя на нее, прямо шалел и немного терялся, не знал, с чего начать разговор.
Катя тоже молчала, стоя с независимым видом в белоснежном халате, который был тщательно выглажен и накрахмален. Халат ей не был велик и не был тесен, он сидел на ней свободно, не сковывая движений, и это еще больше подчеркивало хрупкость ее тонкой фигуры.
— Вот гляжу я на тебя, Катя, и радуюсь, — начал наконец Костричкин, чувствуя сухоту в горле. — Какая же ты опрятная! Халат всегда чистый, без единого пятнышка, каждая складочка на нем разглажена. Волосы пусть длинные, а хорошо прибраны, не рассыпаются во все стороны, как у иной шалавы. Если б все наши мастера были такие аккуратные… А с каким усердием ты всякого бреешь или там стригешь. Честно говоря, смотреть любо, когда твои ловкие руки ножницами дзенькают. А клиент не дурак, он все замечает, оттого и прет к тебе рекой…
Костричкин посмотрел на Катю, которая за все это время не проронила ни слова и стояла прямо, чуть вскинув голову, будто собиралась спросить: ну что вы еще мне скажете? — и понял, как непросто ему будет сломить эту самолюбивую гордячку. Он достал трубку, набил ее табаком и, гулко чмокая, долго раскуривал. Когда трубка сильно задымила, приподнялся в кресле, открыл немного окно и, как-то искоса поглядывая на Катю, продолжал:
— Да, да, клиент чует, если мастер с душою все делает, рад его приходу. А это очень важно. Ведь человек когда чаще всего вспоминает о парикмахерской? Накануне праздника, вот когда. Его приход к нам можно считать прелюдией к празднику. А стало быть, он должен уйти от нас довольный, помолодевший. Мы обязаны создать человеку хорошее настроение перед праздником. Верно я говорю?
Костричкин скрестил на груди руки и приготовился слушать Катю, но она по-прежнему стояла молча, и все тем же холодом блестели у нее глаза, и все та же непокорность была в ее осанке.
— Ну почему ты молчишь? — начиная опять нервничать, спросил Костричкин. — Скажи мне хоть что-нибудь…
На этот раз Катя строго посмотрела на Костричкина, с редким спокойствием сказала:
— Пока вы не попросите извинения, я разговаривать с вами не буду. — И тут же вышла из кабинета.
Растерянный Костричкин подпер подбородок руками, пыхтя с остервенением трубкой, задумался. Нечего сказать, дожил он до веселой жизни, если какая-то шмокадявка с ним разговаривать не изволит. Выходит, он, руководитель, должен каяться перед своей подчиненной, которая к тому же распускает руки. Вместо того чтобы немедленно отдать приказ об ее увольнении, он вопреки своей воле и чести, оказывается, обязан еще просить прощения у своенравной девчонки. Ну и ну, порядочки у нас пошли удивительные, прямо развести руками да ахнуть!..
Ему вспомнилось то доброе время, когда он был еще управляющим в министерстве. Тогда тоже встречались экземпляры сродни вот этой Воронцовой, но он укрощал их легко и без последствий. Бывало, придет к заместителю министра по кадрам, тот сидит, склонившись над бумагами, и вроде его не видит. Но длится это недолго, вот он поднимает голову, ни слова не говоря, смотрит вопросительно: что, мол, у тебя там стряслось? И ты говоришь ему напрямик: «Верите, Михал Михалыч, нет больше у меня сил, инспектор Листикова ведет себя крайне престранно, распоясалась окончательно, мои указания не выполняет, любое хорошее начинание подвергает критике…» Заместитель в ответ сдвинет темные брови к переносице и опять минуту-другую молча глядит на тебя, что означает: «Ну что ты пришел с таким пустяком, видишь, я и без того завален важными бумагами, а тебя что учить-мучить, если сам не первый год руководишь людьми». И тебе уже без слов все ясно, и ты говоришь ему: «Вас понял, готовлю проект приказа, пусть эта Листикова, эта дура бестолковая, катится куда подальше. Не место здесь неслухам да грубиянкам, у нас не какая-нибудь артель «Пташкино перо», а центральное министерство». Михал Михалыч тут же берет очередную папку, начинает листать бумаги, а ты кивком головы благодаришь его и уходишь.