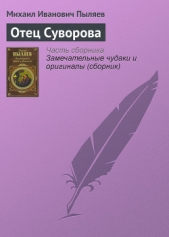Повести

Повести читать книгу онлайн
В настоящее издание включено две повести П. И. Замойского (1896-1958) "Подпасок" и "Молодость", одни из самых известных произведений автора.
Время, о котором пишет автор - годы НЭПа и коллективизации.
О том, как жили люди в деревнях в это непростое время, о становлении личности героев повествуют повести П.Замойского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Тебе не все равно? — говорю я, так как сам не знаю, что такое кресло.
— По всему видно, спать в нем можно, — говорит Степка Ворон, парень рассудительный. — Читай дальше.
— «Ты опять заснешь, Николенька, — говорит мне татап».
— Татапом тятьку, что ль, у них зовут? — осведомляется Ленька–крапивник, не знающий, кто у него отец.
— Нет, тут такие буквы, вроде не наши. По–русски читается татап, и вроде не про отца говорится, а про мать.
— Валяй, увидим, куда дело будет клонить, — опять сказал Степка Ворон, которому всегда хотелось знать, что к чему.
— «Я не хочу спать, мамаша…»
— Так и есть, татап — это мать, — радуется Ленька. — Чудно!
…«Через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья‑то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко–крепко прижмешь ее к губам».
— Ах, черт! — воскликнул Костя. — К губам. А мне моя татап сколько раз прижимала свою лапу к губам! Как съездит, света не видно.
— Читай, куда дело повернет, — крикнул Степка.
— «Вставай, моя душечка, пора идти спать».
— А меня мать вот как будит, — перебивает Ленька: — «Эй, рябая харя, аль кочергой огреть?»
— Слушайте, слушайте, — вступается Степка. — Не о нас ведь написано.
— «Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.
— Вставай же, мой ангел».
— Ангел?! — воскликнула Катька, — Это кто ангел?
— Небось, не ты, — заметил ей Костя. — Ты на мокрую курицу больше похожа.
— «Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня…»
— Боюсь щекотки! — вдруг взвизгнула Катька.
— А–а, боишься!.. — тут же набросился на нее Ленька и принялся щекотать.
Она визжала, отбивалась, потом разревелась и укусила Леньку за палец.
— Бросьте! — прикрикнул Степка. — Аль ладонь прижать к губам?
Меня самого подмывает смех, но я серьезно продолжаю чтение.
— « — Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю!
Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени».
— Точка в точку, как моя мать, — вздыхает Ленька. — Попадешься ей в руки, голову зажмет ногами и пошла писать по заднице. А муж ейный только и кричит: «Поддай жару крапивнику, еще, еще!» Ох, и лупцует…
— «Так ты меня очень любишь?.. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?»
— Нет, не забуду, — усмехается Ленька, — будь тебе неладно!
— «Она еще нежнее целует меня.
— Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! — вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз…
После этого, бывало, придешь наверх и станешь перед иконами в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: спаси, господи, папеньку и маменьку…»
— Ну, хвати–ит, — положил Степка руку на книгу. — Я думал, ты что‑нибудь не про это. Ну их, барчуков! Только злоба в сердце.
Я закрыл книгу.
— В Атмис лошадей поить! — крикнул Ленька.
Вся ватага побежала ловить своих лошадей. Мне тоже хотелось проехаться верхом, но только не на Князь–мерине. Мне поймали лошадь Ивана Беспятого. Это молодая, не в пример нашему Князю, шустрая гнедая кобыленка. Едва забрался на нее, как она взяла уже галопом. Быстро нагнал я ребят, и мы выехали на степь. Ленька, самая отчаянная голова, вдруг гикнул, хлестнул свою пегую кобылу и стрелой вырвался вперед. За ним — Костя Жила, ералашно, как отец его, крича и улюлюкая, потом Степка ударил свою, другие ребята и я, без свистка и крика, мчались за ними по степи. Трава скошена, степь, как сковорода, в лицо хлестал теплый ветер. Лошадь бежала ровно, и в глазах только мелькали с левой стороны деревья, а с правой копны сена. Вот и степь, где еще трава не кошена. Лошади ходу не убавили, и мы мчались, почти скрываясь в высокой траве, как разбойники в прериях. Так и чудилось, выскочит из травы тигр, рявкнет и сшибет всадника с лошадью.
Река Атмис… Рядом — чужое село. В реке купались бабы, стирали белье. Работала водяная мельница. Не слезая с лошадей, ребята разделись, побросали рубахи и въехали в реку.
Напоив лошадей, выкупались и как раз вернулись к обеду.
Мать не спросила, где я был, что делал. Раньше за такое самовольство мне попало бы, а сейчас я — сам себе хозяин.
— Веников бы наломать, — проговорила она, когда мы сели под дубом обедать. — Березовых хорошо бы!
— Наломаю! — обещался я.
— Только гляди, объездчик…
— Ничего, не увидит.
Солнце палило. Даже под дубом и то временами дух захватывало. Мужики и бабы то и дело опасливо посматривали по направлению к селу. В такую сушь сгорит село — и не оглянешься.
Ели мы тюрю — хлеб, накрошенный в соленую воду, хлебали квас с луком и воблой, затем кашу.
После обеда повалились спать. Мать уснула, кормя девчонку грудью. Мухи и оводы так и пели над людьми и лошадьми. Особенно много мелкой мошкары. Она висела столбом над лошадьми и монотонно ныла. Седые оводы градом шлепались на лошадей.
В небе кое–где стыли кудряшки облаков. Горы вдали сизые, лиловые. С них, колыхаясь, сползало марево.
Мне тоже хотелось спать, но я решил найти Павлушку. Нужно прочитать ему басню про Данилку. Басня уже записана в тетрадь. Она получилась лучше, чем о «Мышке и книжке». Отправились мы вдвоем со Степкой. Он тоже любил книги, но сам их не читал, а только слушал и всегда докапывался — что к чему. Степка часто не соглашался со мной и с Павлушкой. Нам нравились рассказы Гоголя, мы перечитывали некоторые места по нескольку раз, а Степка удивлялся и находил, что, кроме страшного про чертей, ничего нет.
— На жизнь мало подходяще.
Мёж собой мы прозвали Степку «непонимающим». Зато ему очень понравился рассказ Короленко «Сон Макара». Особенно конец, где на суде перед богом Макар рассказывает, как ему плохо жилось. Тут Степка даже прослезился.
На Павлушку и его отца мы наткнулись случайно: заслышали в лесу тихий удар топора. Решили напугать. Павлушка с отцом рубили молодые дубочки на цепельники. Из‑за кустов мы подсмотрели, как они, очистив дубочки, оставляют сучья в кустах стоймя, чтобы объездчик не догадался о порубке. Несколько дубочков лежат под большим кустом.
— Ага, попались! — крикнул я басом.
У Павлушкина отца топор выскочил из рук. Оба они так и присели. Помедлил, затем снова, уже спокойным голосом я сказал:
— Видим, видим вас, вылезайте на расправу. Давайте топоры!
— Я вам сейчас такие топоры покажу! — вышел из‑за куста Павлушка с цепельником. Он смекнул, в чем дело. — Ну‑ка, подойдите.
— А то побоимся? — пошли мы на него. — Кто вам разрешил рубить барский лес? Ну, ладно, на первый раз прощаем. Был на обрыве?
— Вчера. Он еще страшнее. Сходим?
— За этим и пришли. Пещеру не завалило?
— Нет, больше размыло. Глянешь — и вот–вот Лейхтвейс вылезет… Тятька, я пойду. Ты закопай пепельники, а вечером я их верхом на лошади отомчу. Веники тоже.
Павлушка на всякий случай взял топор, и мы втроем направились в лес.
— Настю с Олей взять? — шепнул он.
— Не надо… Ну, их, девчонок!
— И то правда, — согласился Павлушка. — Похвальную грамоту получил?
— Получил.
— Закажи Харитону рамку, повесь на стену.
— Зачем на стену?
— А куда же?
— Другое место я нашел.
— К образам, что ль?
— К коровьему хвосту.
Павлушка рассмеялся. И мне смешно от такой выдумки.
Степка шел молча. Он срезал себе палку и обстругивал ее.
Скоро попали мы в настоящие дебри. Повалены деревья, войлоком лежит прошлогодняя трава. Кустарники, глушь… Подходим к оврагу, утонувшему в лесах и сваленных деревьях. Повеял сырой воздух. Теперь продирались еле заметной дорожкой. Вот и овраг! Но нам нужно к таинственному обрыву с бассейном воды, а это ниже. Мы идем краем оврага. Деревья так и клонятся туда, некоторые совсем уже свисли или упали. Макушки их лежали на уступах.