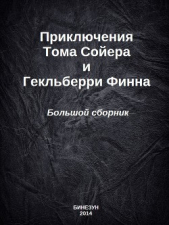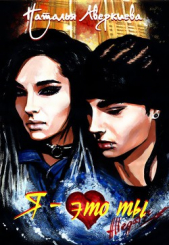Скандалист
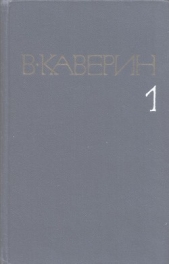
Скандалист читать книгу онлайн
В основе этой своеобразной, по определению самого автора, «комедии нравов» — судьба литераторов, для которых смысл жизни и творчества нераздельны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что это была за бурса, боже мой! И как это было далеко, как непохоже, что все это было.
Ложкин проснулся под утро. В комнате было полутемно. Он лежал тихо, покрытый одеялом до самых глаз, стараясь уснуть и смутно сознавая, что уснуть уже не удастся. Потом он с усилием приподнял голову с подушки, пошарил рукой выключатель.
Никакого выключателя не было, не было и самой лампы, не было даже ночного столика, на котором она стояла. Не было пенсне, не было книги, которую он вчера не успел окончить. Или это было не вчера, но третьего дня, но…
Он слез с кровати и босыми ногами пошел по скрипучим половицам. По половицам — не по паркету: пол был другой. Он подошел к окну, отдернул занавеску. Снег лежал в низком палисаднике — хрупкий, почерневший, подтаивающий. Маленькие голые клены качались от ветра. Наступало утро. Утро было другое.
Потирая озябшие руки, он вернулся и сел на кровати, закутавшись в одеяло. Он удрал, удрал, вот в чем дело! Он бросил жену, отрекся от квартиры. Никто не знает, где он, — ни жена, ни прислуга, ни Публичная библиотека, ни Академия наук. А он у Нейгауза, в глухом городишке в трех верстах от одной из третьестепенных станций по Октябрьской железной дороге.
И чтобы снова заснуть, ему не нужно перебирать дня, оставленного в кабинетах библиотек, в аудиториях университета. Трамвай больше не гудит на поворотах, оконные переплеты не отражаются на потолке — а если и отражаются, то ничем не напоминают другую, третью, четвертую ночь, любую из тех, которыми располагает профессор Ложкин.
Он был свободен наконец. Он мог делать все, что хотел, он мог ложиться, когда вздумается, и, когда вздумается, вставать. И не нужно было разговаривать с людьми, не нужно извиняться перед ними за свое существование.
Не было книг, стены были простые, бревенчатые, свободные.
Не нужно было улыбаться.
Почти все свободное от занятий время Нейгауз проводил над верстаком, со стамеской, с рубанком в руках. Он любил делать вещи. За исключением мягкого кресла для важных гостей, все, что увидел Ложкин в его маленьком доме, было сделано его собственными руками.
Он был прекрасный врач, что, впрочем, нисколько не мешало ему относиться скептически к своей профессии.
— Единственный случай, когда причина идет за следствием, — сказал он Ложкину, — это когда врач идет за гробом своего пациента.
В городе его любили, крестьяне за десятки верст приезжали к нему лечиться. Прославился он после истории с печным горшком. История была такая.
Лет пятнадцать назад мужики во главе с волостным старшиной приехали за ним, чтобы отвезти его в одну из окрестных деревень.
Там под иконами лежал огромный волосатый старик, очевидец Отечественной войны, которого, по предписанию из обеих столиц, необходимо было сохранить для празднования столетней годовщины 1812 года.
Он кричал. Печной горшок стоял на его животе.
Вернувшись из городской больницы, где он был поражен лечебным свойством сухих банок, он взял печной горшок, намылил его, сжег в нем клок кудели и сам себе поставил на живот вместо банки.
Живот ушел в печной горшок без остатка.
Три растерянных фельдшера суетились вокруг старика. Они тщетно пытались под наблюдением пристава засунуть под горшок пальцы.
Старик ругал их по-матери. Уверяя, что он был лично знаком с Бонапартом, что у других очевидцев в паспортах подчищены года, он требовал у фельдшеров немедленного облегчения.
Нейгауз с минуту смотрел на него — моржовые усы его чуть заметно дрожали от сдержанного смеха.
Оглядевшись, он приметил у печки кочергу. Все следили за ним с любопытством. Он взял в руки кочергу и, сказав только с легким латышским акцентом: «Ну, теперь держись, старый хрен», — ахнул по горшку кочергой. Горшок разлетелся в куски. 125-летний волосатый живот вылез из-под него, обожженный, сильно потрепанный, но веселый.
С тех пор Нейгауза на сто верст кругом знал каждый ребенок. Он был прост. Ему прощали чудачества. Чудачеством считали, например, его привычку купаться в местной речке каждое утро, летом и зимой, в любую погоду.
На следующий же день после приезда Ложкина он и Ложкина потащил купаться — и тот с ужасом смотрел, как, сбросив с себя широкие штаны и легкий чесучовый пиджак, Нейгауз начал приседать на берегу, сгибая и разгибая узловатые руки. На острый ветер, который заставил Ложкина поднять воротник пальто и поплотнее завязать кашне вокруг шеи, он не обращал ни малейшего внимания.
— Очень полезно, voluntas sana in corpore sana! [10] — крикнул он Ложкину и, кончив гимнастические упражнения, полез в воду.
Лед еще только что прошел, вода была очень холодна — но он неторопливо окунулся несколько раз и, слегка сгорбившись, похлопывая себя по старому кряжистому телу, вылез на берег. Ложкин растерянно смотрел, как, плотно утвердившись на длинных сухих ногах, он стер с себя ладонями воду и принялся с силой растираться мохнатой простыней.
Он должен был поехать в больницу в этот день, но ради приезда старого приятеля не поехал, и они целый день бродили по городу. Нейгауз показывал город. Указав рукой на дом, он говорил кратко: «Вот дом», на аптеку — «Вот аптека», на почту — «Вот почта».
Показывать было нечего. Аптека была аптекой, дом — домом, почта — почтой. Жители не были похожи на дикарей.
Как все молчаливые люди, Нейгауз говорил мерно, не сливая слова, останавливаясь на неожиданных местах. Показав аптеку, больницу и почту, он рассказал Ложкину несколько случаев из своей практики.
Пришел к нему однажды милиционер с разинутым ртом. Он как бы пел — беспрестанно, но бесшумно. Отчаянно ворочая языком, он кое-как объяснил Нейгаузу, что раскрыл рот, чтобы хлебнуть щей в трактире, да так с разинутым ртом и остался. Трактирщик с подручным старались закрыть рот насильно, но не могли.
— Я стукнул его кулаком по челюсти, — кратко объяснил Нейгауз, — это был, конечно, простой вывих. Но в рот, покамест он дошел до меня, набилось очень много пыли и всякой дряни. Когда он закрыл рот, он чуть не задохнулся.
По дороге к дому Нейгауз припомнил, что, расставаясь по окончании гимназии, Ложкин, и он, и Крейтер, и Попов, и еще кто-то решили собираться каждое пятилетие. Крейтер был теперь профессором математики в Бостоне, Попов умер лет десять тому назад.
Зато здесь же, в городе, живет и служит а Губстатбюро не кто иной, как Женька Таубе, — «ты, должно быть, помнишь его, Степан, он был на два или три класса старше нас с тобой».
Тут же решено было позвать Женьку Таубе. Решено было в тот же вечер устроить «на лужайке детский крик» — так выразился Нейгауз.
«На лужайке детский крик» начался с того, что Нейгауз затеял варить глинтвейн и сам старательно толок корицу, сыпал в кастрюлю сушеную гвоздику, отмерял пивным стаканчиком сахарный песок.
— Ты увидишь, милый мой, что я не забыл еще, как это делается. Помнишь, как мы варили пунш а бабаевском доме?
Ложкин помнил. В бабаевском доме жили пансионеры. Нейгауз был пансионером и признанным тамадой на всех гимназических вечерниках.
Потом пришел Женька Таубе, дряхлый старик с тощими седыми баками, с подвижным носом. Один глаз у него был постоянно прищурен, что придавало его лицу скептическое выражение. Другой косил.
Ложкин был немного испуган его появлением. Но Женька даже не посмотрел в его сторону. Понюхав слегка воздух, он прямо отправился к тому месту, где возился с глинтвейном Нейгауз.
Он попробовал глинтвейн и объявил, что в нем маловато водки.
— Пошел ты к черту, — с сердцем сказал ему Нейгауз и, схватив за плечо, повел к Ложкину.
— Самый мнительный человек в мире, — сказал он очень серьезно, — хлеб, на который села муха, мажет йодом, прежде чем положить в рот. Из преданности к Советской власти до сих пор не решается надеть галстук, так с запонкой и ходит.