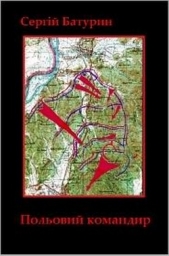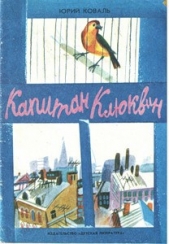Рассказы из книги Опасайтесь лысых и усатых

Рассказы из книги Опасайтесь лысых и усатых читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Иван Сергеевич, когда читаешь ваши вещи – «Детство», «Чижикову лавру», морские рассказы, – волей-неволей приходишь к выводу, что вы никогда ничего не придумываете. И пишете только о том, что видели и пережили.
– Я никогда не считал себя сочинителем и действительно никогда не выдумывал того, о чем писал. Аксаков когда-то сказал, что он не умел выдумывать, а когда пытался, у него не получалось. Что-то есть такое и во мне. Большинство моих рассказов – это все то, что я пережил и видел, и даже имена моих героев почти все подлинные. Я писал о тех людях, которых встречал, с которыми знакомился и которых любил… Я ведь не принадлежу к писателям, которые составляют себе план, потом размышляют… Большинство из того, что я написал, получалось как-то само собой, и я не могу сказать, как это происходило. Возникала мысль или воспоминание, тянуло меня к бумаге – и я писал, не вымышляя ничего. Про многие рассказы я не знал, что напишу. И часто, когда начинал писать, не знал, чем кончу.
Спокойно, неторопливо и значительно отвечал мне Иван Сергеевич. Он размышлял и вспоминал, уже и чай был на столе, а Лидии Васильевне некогда было глотнуть. Она писала, а мы с Лидией Ивановной слушали. Как же я благодарен сейчас этой стенограмме, которая лежит передо мной!
– Как мне приходилось писать? Есть у меня такой рассказ – «Фурсик». Как я его писал? Я служил тогда матросом. Стояли мы в Англии. Зашел как-то я в английский кабачок – смокинг-рум, сел за стол, там и написал рассказ о русской лошади.
Я никогда не старался работать регулярно, так, как работал, например, Алексей Толстой, который каждый день непременно писал свои две страницы на машинке. Каждый день я, конечно, не пишу. Но иногда меня, бывало, захватывало, и я писал с увлечением, с волнением и подолгу.
– Значит, писание для вас было всегда делом естественным и приятным?
– Да, и оно особенно связано с тем, когда я был здоров и счастлив. Тогда у меня получалось хорошо, как помнится.
– А как вы стали писать?
– Мое писание началось случайно. Я не помышлял быть писателем. Когда мне было лет семнадцать, задолго до революции, думаю, что в 1910 году, я написал сказку. Я жил тогда в Петербурге и учился на частных сельскохозяйственных курсах. Написанную сказку я никому не показывал, пока не узнал, что обработкой сказок занимался Алексей Михайлович Ремизов.
Я решился пойти к нему.
Свою сказку вместе с письмом я оставил у швейцара. Меня не впустили. В письме я просил прочитать сказку и ответить мне. Получил я от Ремизова очень ласковое и любезное письмо, в котором он писал, что сказка ему понравилась и будет напечатана в журнале «Заветы». (Выходил тогда и такой журнал, его редактором был Иванов-Разумник. Журнал был закрыт перед первой мировой войной – его не любило начальство.)
Когда я во второй раз пришел к Ремизову, он меня принял. Он сел со мною за стол, положил мою рукопись, и мы стали от слова к слову ее просматривать. Он показывал на промахи, учил и поправлял меня. Это был естественный урок и запомнился мне на всю жизнь. Тщательное, бережливое отношение к слову Ремизов внушил мне сразу. Он же познакомил меня с Пришвиным, который считался учеником его, с Шишковым.
Интервью с чаепитием. В сочетании этих двух слов заключена какая-то неестественность. Так я и чувствовал себя в день первого знакомства с Иваном Сергеевичем. Хотелось просто попить чаю, поболтать о том о сем с хозяином, очень располагающим к сердечной беседе. Но приходилось делать дело – журнал «Вопросы литературы» висел надо мной, денег там даром не выдавали.
Само слово «интервью» вызывало у Ивана Сергеевича некоторую насмешку.
– Это что же, ваша работа – «интервьюер»? – спросил он.
Я и растерялся, и застеснялся, принялся что-то лепетать и объясняться и в конце концов все-таки рассмешил хозяина, предложив называть меня – «интервьюра».
– Не люблю я слов такого рода, – сказал Иван Сергеевич. – В нашем языке появилось много сорных словечек. Он порой похож на поле, покрытое сорняками. Иногда эти сорняки кажутся даже красивыми – овсюг, сурепка (василек я не считаю сорняком).
– Иван Сергеевич, – сказал я, – а как вам такое сочетание: «водоплавающая дичь»?
– Очень нехорошо. Тогда и зайца нужно называть «землебегающим». Или говорят – «пернатые друзья». Бог знает, откуда это появилось. Откуда выкопали это слово? Никогда охотник не скажет, что он идет охотиться на «пернатых» или «водоплавающих».
– А вот немецкое слово «вальдшнеп» прижилось у нас. Правда, мне приходилось слышать изменение этого слова – «валишень». Очень приятно, на мой взгляд, звучит, нежно.
– Есть и русское слово – «слука». Во всяком случае, у нас, в смоленских краях, так называли вальдшнепов крестьяне.
– Вы считаете, что язык наш стал беднее?
– Не то что беднее – однообразнее. Раньше, когда я слушал мужика или матроса, я видел его лицо в языке – каждый по-своему говорил. А теперь все говорят одинаково, даже писатели. Толстого от Гоголя вы могли отличить по одной фразе, а сейчас откроешь книжку, но не всегда узнаешь по языку, кто же ее написал.
– По-моему, здесь немалую роль играют и некоторые наши редакторы.
– Да, редакторы и мне в свое время много крови попортили. Когда-то мой двухтомник редактировала женщина, которая во всех моих деревенских рассказах слова «мужики» и «бабы» заменила словами «крестьяне» и «крестьянки». Иногда редакторы считали даже возможным писать за меня: накатают целую страницу – потом за голову схватишься. Сейчас-то, слава богу, этого нет.
Интервью с чаепитием – оно не было кончено в один день. Потом еще не раз и не два приезжал я к Ивану Сергеевичу. Я уже не брал с собой Лидию Васильевну, дружеское расположение хозяина облегчало мне работу, я успевал и записать, что надо, и чаю попить, и пообедать, и так просто поговорить на темы, не имеющие отношения к журналу «Вопросы литературы».
Сейчас, через много лет, я просматриваю стенограмму и записи наших бесед. Я понимаю, что привожу здесь слова Ивана Сергеевича с высокой точностью, но сердце почему-то отвлекается от старых записей.
Сейчас уж не помню, как и зачем, но вдруг я оказался на проспекте Мира.
Был солнечный летний день.
Я спешил куда-то, даже бежал – и вдруг увидел Ивана Сергеевича. В темном своем халате, запахнутом на груди, он шел навстречу мне, шел стороною от бегущей толпы, почти прижимаясь к стене унылого серо-розового дома. И эта разница между бегущей толпой – какие-то девушки, кто-то кричит – и седобородым человеком у стены дома вдруг отчетливо и резко ударила в сердце.
Я остолбенел и встал на месте.
Иван Сергеевич не видел меня, не мог видеть, и я не знал, как быть. Подбежать к нему и крикнуть, что здесь, мол, я, казалось неловко. Не такие уж мы близкие друзья, чтобы вот так на улице подбегать и кричать.
Медленно-медленно шел Иван Сергеевич, и еще медленней работала моя голова. Я только лишь не терял его из виду и шел стороной за ним.
Вдруг Иван Сергеевич исчез. И тут я увидел вывеску: «Белый медведь». Растерянный, я вошел в кафе. Иван Сергеевич заказывал у стойки коньяк.
Я выскочил на улицу, потому что теперь получилась полная глупость, какая-то бестактность. Нельзя так ходить за человеком, когда он не знает, что за ним идут.
Уныло дожидался я на улице, когда Иван Сергеевич выйдет из кафе.
По-прежнему держась стены, он отправился в обратный путь, а я все стороной побрел за ним. Теперь уж я совсем не решался объявиться.
Так добрался Иван Сергеевич до перекрестка и остановился. Ему надо было здесь перейти улицу. У края тротуара он стоял, ожидая, что кто-нибудь переведет его. Тут уж только бы дурак не подошел к нему. Я и подошел.
– Иван Сергеевич, – говорю, – тут рядом с вами находится Юрий Коваль.
– Вот как хорошо-то! – обрадовался Иван Сергеевич. – Как же вы так объявились? Не звоните, не приходите, а как улицу переходить – объявляетесь.
– Шут его знает как, – ответил я. – Только так уж получилось.