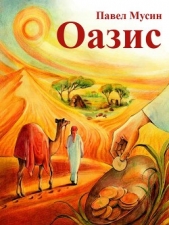Иду над океаном

Иду над океаном читать книгу онлайн
Роман посвящен проблемам современности. Многочисленные герои П. Халова — военные летчики, врачи, партийные работники, художники — объединены одним стремлением: раскрыть, наиболее полно проявить все свои творческие возможности, все свои силы, чтобы отдать их служению Родине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но сегодня ее почему-то потянуло в Союз. И она пошла, стараясь только избегать знакомых. Тетя Катя, завскладом, сказала, что краски есть, можно выписать. Потом помолчала, склонив голову, и вдруг решилась:
— Знаешь, не ходи. Возьми так — не выпишут. Валеев картину заканчивает, он предупредил — никому ни тюбика. У него там тайга, а наша тайга и зимой зеленая. Я знаю, сама в тайге выросла.
Нельке нравилось бывать в складе. Словно патроны, тяжелые, крупные, с одинаковыми головками, лежали в коробках тюбики с красками. Здесь пахло удивительным запахом, какой-то смесью красок, лаков, мела, пахло клеем и холстами, пахло железом от гвоздей и деревом от подрамников. Обернутые в бумагу, в коробках лежали кисти щетинные и скрепленные крохотными резинками на картоне — колонковые. Это было такое богатство, что у Нельки захватывало дух.
— Нель, а Нель, — позвала тетя Катя. — Вот я давно заметила, тебе нравится здесь бывать. А другие — схватят, что выписали, и едва не бегом. А другой берет краски, как кефир. Точно по пути зашел и на всякий случай. Отчего это?
— Я не знаю, тетя Катя. Видимо, оттого, что каждый по-своему работает.
— Муж у меня лесоруб был, — после небольшой паузы сказала тетя Катя. — Знаешь, леспромхоз есть — Даниловский. Сколько там лесорубов — батюшки мои! Сколько дерев поналомали! На том свете греха им не отмолить. Дерево-то, оно ведь тоже не так себе растет, не само по себе, а для чего-то. Вот муж мне показал — стоит кедр. Дерево, как все остальные. Ну, малость побольше да покрепче. А приглядись, сколько вокруг него живого всякого: и птицы, и звери, и травы, какая не возле каждого дерева-то поднимается. Это муж мой говорил так, а я и сама потом заметила, кто топор ай пилу с мертвой душой берет, без раздумий, тому хоть кедр, хоть береза, — зарубит, даже малое, невозникшее еще… Я, милая, здесь десять лет уже работаю. Я много чего видела.
Нелька давно пользовалась расположением тети Кати и никогда как следует ее не видела. И слова эти произвели на нее очень сильное впечатление. Она подошла к старой женщине, села напротив и сказала:
— Теть Катя, значит, вы мне верите? Верите, что когда-нибудь у меня получится что-то настоящее?
— Это ты должна знать. Я тебе говорю, что у кого дело в душу влезло, он и мастерок берет особо, и топор, а ты вот краски. Я, знаешь, Нель, и сама к краскам привыкла. Недавно болела неделю, так все думала-думала… Вот придет человек, а я знаю, чего он просить будет. Догадываюсь. Ты, Нель, приходи, я тебе всегда оставлю, что тебе надо. А потом уж оформишь.
Нелька ушла от нее с каким-то светом и тишиной в душе, словно сама видела, как дерево выросло.
Первая мастерская настоящего художника, в которой побывала Нелька, была мастерская Штокова. Она тогда собиралась писать дипломную работу. Осматривалась, с трепетом ходила по зданию Художественного фонда — замысла еще не было. И все казалось ей темой: случай на улице, группа парней, готовящихся к разминке на стадионе. Ярко-красные тренировочные костюмы и смуглое тело, шоссе с машинами, со светофором, с пестрой, яркой толпой. Она видела город, в котором провела свою юность, словно надолго уезжала и воспринимала его, город, из детства.
Их было трое дипломников: Фотьев, еще один парень с графического и она. Фотьев тотчас пристроился к ребятам в мастерской, которые готовились к выставке, заканчивали свои холсты. Много мастерских пустовало: художники разъехались на этюды. Фотьев работал в громадном помещении, пользовался чужими натурщиками, сшибал краски, кисти. Писал отдых рыбаков, вернувшихся с промысла. Он только на три-четыре дня съездил в колхоз, привез пару этюдов и несколько набросков. Фигуры и головы рыбаков. А остальное придумал уже здесь. Нельке казалось, что он очень талантлив и что работа его из гущи жизни и смело решена.
Она же все металась среди множества тем, каждое утро вставала с томительной нежностью в душе к очередной теме. И никак не могла начать. В руках все тускнело. Она сказала об этом Фотьеву. «Потерпи, — ответил он, — лишнее отсеется и найдешь главное. Но ты на себя не очень надейся. Есть же много такого, что надо. Пиши труд, пиши рабочих».
— Но их же надо знать!
— Ну и дура. Знать… Почитай статьи, посмотри, что иные творят. Или вот партизаны. Вечный хлеб. Всегда нужно и в любом количестве.
Тогда Нелька впервые посмотрела на Фотьева иными глазами. Она очень расстроилась и сказала:
— Эх ты, мыслитель… Тебе не стыдно? Это же смерть — так работать.
— А вот и посмотрим.
У него картина подвигалась, а Нелька все еще бродила пустая. Она уже не помнила, как попала к Штокову. Говорили о нем много и говорили по-разному. Штоков встретил ее, как встречал всех, молча, одними глазами. Она удивилась обилию старых холстов, законченных и незаконченных. Но ей показалось, что этот высокий плоский старик с тяжелым лицом и массивным носом сейчас ничего не пишет. Не было в его мастерской специфической атмосферы, которая возникает, если пишется холст, — мастерскую невозможно тогда убрать, что ты ни делай. Она обжита до самого маленького уголка. Сам воздух наполнен чем-то напряженным. А если Штоков здесь не пишет, то откуда тогда на стенке три свежих, словно вчерашних, этюда — панорама города. Когда она осмотрелась, увидела еще портрет — полтора метра на два. Он стоял в углу. В солнечный знойный день на берегу реки изображен был высокий узкоплечий человек с умным, острым книзу лицом. Было похоже, что человек этот только что говорил об очень важном. И его огорчили так, что он сперва не нашел слов ответить. И уже было пошел, неся свою боль и обиду, даже дошагал до самой кромки воды, но вдруг нашел эти очень важные убедительные слова. И он повернулся и сейчас скажет то, что хотел. Его собеседника на картине нет, только взгляд человека на полотне говорит, что противник его по эту сторону рамы. Решен портрет был скупо на оттенки, но щедро на силу цвета. Весь в теплых тонах от прибрежной гальки, от почти серого неба над головой и от серо-фиолетовой реки. Горизонт на портрете был очень низко, словно художник видел своего героя чуть-чуть сверху.
— Кто это? — спросила Нелька.
— Биолог, — односложно ответил Штоков.
Она увидела еще одну вещь, и вещь эта потрясла ее: на палубе быстро идущего корабля встретились у самых поручней двое — в телогрейках и сапогах, в темных рабочих шапках. Один прикуривает у другого. И тот, другой, сложив ладони по-солдатски, чтобы сильный ветер не задул спичку, спокойно и как-то очень искренне смотрит на своего товарища. Видимо, было время заката — все в пламени, даже море за поручнями в пламени. И стоят эти двое, расставив тяжелые ноги для прочности, и руки у них тяжелые, и от палубы, от поручней так и веет мощью движения и жизнью механизмов. Кажется, прислони руки к полотну, и ладонь ощутит упругую дрожь дизелей.
Штоков проследил за ее взглядом, подошел и встал за ее спиной. И, не дожидаясь вопроса, сказал:
— Это «Китобои». Так называется.
Нелька хотела сказать ему, что картина прелесть. Нет, не то слово — просто это здорово сделано. И очень искренне. И тут можно много думать об этих людях. Они словно незримыми нитями были связаны с ней. Но она ничего не сказала старому художнику. Она спросила взволнованно:
— У вас есть еще что-нибудь? Нет, нет, я знаю, конечно, есть. Но тут, в мастерской, у вас есть еще что-нибудь?
Она посмотрела ему в лицо. Штоков не отвел взгляда. Он был высоким и очень прямо держал голову, словно устал ее держать так, и от этого казалось, что он смотрит свысока. А он смотрел испытующе, точно оценивал ее и прикидывал, можно ли этой пигалице верить.
Штоков долго двигал холсты, обращенные лицом к стене, пока наконец не освободил большое полотно, и повернул его к ней.
— Вот, — проговорил Штоков, возвращаясь на место. — «Одна тысяча девятьсот сорок второй».
Трудное, трагическое это было полотно. Почти квадратный холст, только чуть вытянутый вверх. Гулкий темный высоченный цех. Потолок даже не угадывается в каком-то синеватом мареве. Далеко-далеко, так что туда надо ехать, квадрат света — ворота в цех. Там много света. Лунная ночь. Рельсы, что идут туда почти от нижнего края картины, кое-где вспыхивают лунным светом. А на переднем плане правый край залит горячим светом от расплавленного металла. Самой разливки нет, есть только отсвет ее. А две фигуры, одна в три четверти, на танковой башне, еще черной от окалины, с металлическим блеском свежего металла. Вторая — чуть дальше. Человек готовит тали, свисающие с крана вверху. Написана картина была так, что, в сущности, две эти фигуры — самые главные. Но чувствуется, что они не одни здесь — эти двое. Нелька пригляделась и поняла — там, в глубине, на трапах вдоль стен цеха полно людей, и они там тоже ждут эту башню. А лица — одно в тени, а другое — озаренное светом плавки, — выписаны четко, подробно и крупно. Сейчас кран поднимет башню, цепи уже напряжены, и даже, кажется, слышно, как позванивают они от тяжести танковой башни. Тревожно до самоотречения, до одержимости лицо первого. Точно эта башня самая главная во всей войне и путь к победе надо отсчитывать от этой башни.