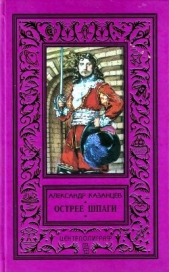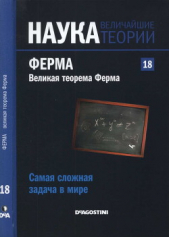Кто, если не ты?

Кто, если не ты? читать книгу онлайн
Роман, вышедший в 1964 году и вызвавший бурную реакцию как в читательской, так и в писательской среде - о действительных событиях, свидетелем и участником которых был сам автор, Юрий Герт - всколыхнувших тихий город "волгарей" Астрахань в конце сороковых годов, когда юношеские мечты и вера в идеалы столкнулись с суровой и жестокой реальностью, оставивших неизгладимый след в душах и судьбах целого поколения послевоенной молодёжи
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
23
Турбинины собирались в театр: главный режиссер, который называл Любовь Михайловну «самой талантливой зрительницей города», как обычно, прислал билеты на премьеру. Только что ушел парикмахер — в воздухе еще стоял запах паленых волос — и теперь, сидя в гостиной, Игорь слышал, как мать проказливым, капризным голосом требовала, чтобы отец похвалил ее новую прическу. Потом зашуршал шелк — она одевалась. Фыркнул пульверизатор — отец кончал бриться. Он всегда брился по утрам, наспех, оставляя островки серой щетины снизу подбородка, но в такие минуты, как эти, мог позволить себе роскошь выбриться неторопливо, смягчить раздраженную кожу горячим компрессом, побрызгать одеколоном... Игорь посмотрел на часы. «Большой Бен» показывал семь. «Большим Беном» прозвали старинные стенные часы— Любовь Михайловна очень гордилась ими утверждая, что их бой — копия боя часов на Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Однако несмотря на знаменитое родство, часы ходили скверно, то забегали вперед, то отставали, то замирали совсем. Когда Любовь Михайловна созывала целый консилиум из лучших часовщиков, они многозначительно цокали языками, хвалили механизмы, и часы неделю шли без перебоев.
Игорь сверил их по наручным — нет, на этот раз они показывали время точно. Игорь рассеянно полистал газету, заглянул в спальню: отец уже примерял галстук. Игорь отошел от двери и опустился в кресло.
Между ним и отцом издавна установилась граница, которую оба нарушали редко и неохотно. Виделись они мало и привыкли отлично обходиться друг без друга. В их отношениях не было вражды, просто каждый жил в своем мире, несколько ироническое уважение — вот и все, что их связывало, особенно в последние годы. И когда Максим Федорович, хорошо выбритый, посвежевший, в парадном костюме стального цвета уверенными, бодрыми шагами вошел в гостиную и, тоже развернув газету, сел напротив Игоря и широко раздвинул колени, чтобы не помять складки на брюках — первая фраза далась Игорю с трудом, но все-таки он ее произнес точно как задумал, слово в слово.
— Ты смотри, «Водник» опять продул!—обрадованно сказал Максим Федорович и, достав из верхнего кармана карандашик, что-то подчеркнул в газете.
Смолоду он был завзятым хоккеистом, а «Водник» являлся постоянным соперником заводской команды.
— Это все, что ты можешь ответить? — спросил Игорь.
Максим Федорович снова заслонился от сына газетной страницей; видимо, ему не хотелось нарушать настроения отдыха и покоя; Игорь услышал ровный, спокойный голос:
— Ты не сообщил мне ничего нового.
— Значит, тебе все известно?..
— Конечно.
— И ты выгнал его из кабинета?
— Не помню. Должно быть, я просто сказал, что у меня есть приемные дни.
— А если бы он пришел в приемный день? Ты дал бы ему квартиру?..
Теперь он увидел перед собой холодный голубой глаз в досадливом, усталом прищуре.
— Тебя что, уполномочили быть ходатаем?
— Никто меня не уполномочил.
— Тогда в чем же дело?
— Мы учимся с его сыном в одном классе.
— Вот как,— сказал Максим Федорович. Он отложил в сторону «Физкультуру и спорт».— Вот как. Товарищеские чувства... Это похвально. А может быть, скажем, из тех же товарищеских чувств ты как-нибудь бы зашел в мой кабинет?
— Зачем?
— Посмотреть, послушать... Ко мне приходят десятки людей, и семь из десяти говорят о жилплощади.
— И ты всех выгоняешь из своего кабинета?
— Я говорю им: ждите очереди.
— И длинная она, эта очередь?
— Длинная.
— А если у Лапочкина умрет мать прежде, чем очередь подойдет к ним, и вдобавок перезаразит своих детей?..
Максим Федорович окинул сына протяжным, внимательным взглядом, ответил с расстановкой:
— А что я могу сделать?
В его лице с широким, крепко сбитым подбородком, крутыми скулами, тяжелым, высоким лбом было невозмутимое сознание собственной правоты. Игорь чувствовал это, но что-то постыдное, оскорбительное заключалось в этой безысходной правоте. Он стиснул ручку кресла.
— Я не знаю, что я мог бы. Я не директор. Может быть, для начала я дал бы матери Лапочкина путевку в санаторий.
— Ты полагаешь, она одна нуждается в путевке?
— Нет, почему же,—сказал Игорь.— Например, еще моя мать. Ей ведь курорт необходим так же, как и Лапочкиной.
— Твоя мать тоже больной человек, у нее истрепаны нервы и сердце.
— Страшно!.. — усмехнулся Игорь.
Он с мстительной радостью заметил, что попал в
цель. Максим Федорович расстегнул пиджак и поправил и без того лежавший на месте галстук.
— ...И, вероятно, тебе известно, что она ездит вместо меня, а я имею право раз в году...
— Слесарь Лапочкин тоже имеет право...
— Мне кажется, ты вмешиваешься не в свое дело...
— Неужели?..
Максим Федорович прикрыл глаза. Когда он снова открыл их, они были по-прежнему холодны и спокойны.
— Я думаю, прежде, чем учить отца, тебе следовало бы пожить в строительных бараках, попачкать руки машинным маслом, понюхать пороху на фронте, посидеть в директорском кресле. Когда ты пройдешь через это, мы поговорим.
Он знал, что кончится этим. Он знал, что так вот и кончится. И завтра Бугров опять спросит: «Ну, что?» — «Ничего!» Его не убедишь, он скажет, что Ленин в Смольном жевал ржаные корки...
— Что?..
— Ленин в Смольном жевал ржаные корки!
— Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего особенного! Если ты не можешь выстроить дом, то ты можешь хотя бы поменяться с Лапочкиным квартирой.
— А остальных? — Максим Федорович поднялся.— Остальных ты тоже собираешься вселить сюда?
-—Там будет видно! Но так... Так было бы по крайней мере честнее для коммуниста!.. Я думаю!..
— Я думаю! — Максим Федорович приблизился к сыну.— Кто дал тебе право все это думать?
«Бугров, наверное, сказал бы: Революция! — Игорь тоже встал.
— Так вот... Сначала вы сами что-нибудь сделайте для революции, а уж потом — потом! — требуйте жертв у других!
— И сделаем!
— Сделайте! Я в ваши годы уже кое-что сделал!..— крикнул Максим Федорович и широко и быстро шагая, вышел. Когда Любовь Михайловна —ароматная, красивая, в изящном платье — вбежала в гостиную, Игорь сидел в кресле, развернув перед собой газету.
— Что здесь произошло?.. Вы поссорились?..
— Ничего,— сказал Игорь.— Мы обсуждали результаты последнего хоккейного матча.
— Так одевайся—уже пора!
— Я не иду в театр, мама,— процедил Игорь.— Я вспомнил, что завтра у нас сочинение, надо готовиться...
Когда через два дня к нему подошел Боря Лапочкин, отозвал в сторонку и с беспокойством сообщил:
— К нам комиссия приходила... Насчет квартиры... Ты с отцом говорил?..
Он сказал:
— Нет.
— Вот и хорошо,— облегченно сказал Борис.— А то отец все матуху ругает... Так ты смотри — ни полслова!..
— Ни полслова,— сказал Игорь.
24
Близилась генеральная. Директор сказал, что на нее придут, представители районо, райкома комсомола, учителя — и все решится...
Дипломаты клеили цилиндры, запасались гримом, дозубривали тексты. Клим нервничал. Он не был уверен ни в чем — ни в пьесе, ни в артистах. Перед генеральной, на последнюю репетицию не явился Лешка Мамыкин.
Он играл одну из главных ролей. Взбешенный Клим помчался разыскивать его вместе с Лапочкиным, который знал Лёшкин адрес; Клим всю дорогу ругался:— Ну и Мамыкин!.. Вот свинья!..
Иногда ему начинало казаться, что с Лешкой случилось нечто ужасное и спектакль погиб. Но Лешка сидел дома как ни в чем не бывало и читал «Тайную войну против России», которую накануне дал ему Игорь.
Из соседней комнаты вышел отец Лешки — такой же рослый, крепкий, как и сын, с такими же маленькими глазками в узких щелках припухших век.
Тот поднялся, глядя в пол, сказал:
— Я пойду, папаня?..—и как-то боком, неуклюже двинулся в угол, где висела верхняя одежда.