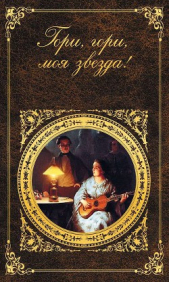А ты гори, звезда

А ты гори, звезда читать книгу онлайн
Читателю хорошо известны книги лауреата Государственной премии СССР Сергея Сартакова: «Барбинские повести», «Хребты Саянские», «Ледяной клад», «Философский камень». Его новый роман посвящен соратникам В. И. Ленина, которые вместе с ним боролись за создание большевистской партии, готовили победу Октября в России. Одним из них был Иосиф Федорович Дубровинский, профессиональный революционер, человек несгибаемой воли, беспредельно преданный делу революции. Роман широко и ярко воссоздает историческую обстановку в России на рубеже XIX–XX столетий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— И чего этот вагон туда прицепили? — с досадой сказала тетя Саша, подхватывая узел с постелью. — Не могли поставить рядом, хотя бы вот с этим вагоном второго класса!
— Арестантские ставят всегда самыми первыми, — объяснил всезнающий Яков, вдвоем с братом поднимая перевязанный веревками сундучок. — Если крушение, разобьет — так не жалко.
— Типун тебе на язык! — крикнула тетя Саша.
Из окна арестантского вагона, сквозь продольные прутья решетки, тянулась рука. Маячило знакомое лицо.
— Алексей Яковлевич! — узнал Иосиф.
И на душе у него стало как-то светлее от сознания, что ехать неведомо докуда придется все-таки вместе, втроем.
Семенова метнулась к протянутой руке. Жандарм грубо толкнул ее в плечо.
— Куды? Назвалась груздем — полезай в кузов! Дорогой намилуешься сколько хочешь.
Из вагона на платформу спустился полицейский офицер. Взял у жандарма сопроводительные документы, неторопливо, внимательно прочитал.
— Так-с, политические…
Оглядел новых своих «пассажиров», изобразил на лице иронически-приветливую улыбку.
— Что ж, милости просим, господа! И не обессудьте, что, кроме Никитина, принятого мною в Курске, все остальные спутники ваши до Казани из уголовников. От самого Ростова-на-Дону заскребаем. В вагоне тесновато, но устраивайтесь как сумеете.

Провожающим он не позволил подняться. Семен с Яковом побросали вещи в тамбур. Пересы сделали то же самое. Дорогой разберутся. А жандарм все торопил, подталкивая в спину то одного, то другого.
Короткие рукопожатия. Еще раз обнялись, поцеловались.
— Не грусти, мама! Скоро мы снова увидимся, — успел сказать Иосиф с подножки вагона.
И через минуту показался в окне, располосованном железной решеткой, рядом с Никитиным и Семеновой.
Тетя Саша пыталась снизу кричать: «Ося! Ося! Ты послушай меня!» И подавала какие-то самые важные советы. Иосиф слушал ее невнимательно. Он глядел на мать, совершенно окаменевшую, с маленьким белым платочком, зажатым в зубах, чтобы не разрыдаться. Дали второй звонок. И третий. Мать стояла все такая же совсем неподвижная, будто памятник.
Заверещал кондукторский свисток. Басовито гуднул паровоз. Пробежал буферный переклик по всему составу. И вокзальное здание стало медленно уползать назад. За ним — водогрейка, пакгауз…
Никитин тормошил Иосифа, о чем-то расспрашивал. Иосиф ему отвечал. Иногда по существу, а чаще совсем невпопад. Ему все время виделась мать, поседевшая, с закушенным в зубах платочком.
— Дубровинский! — услышал он голос конвойного жандарма. — А ну сюда!
Орел и дом родной отошли в туманную даль. Недолгий возврат в детство и юность окончился. Теперь он навсегда уже не Ося, и не Иосиф, а только — Дубровинский. Он политический ссыльный, на четыре года лишенный права хотя бы шаг один сделать свободно, без разрешения «подлежащего» начальства. Живи где укажут, работай где позволят. Но думать можешь, впрочем, обо всем, о чем тебе захочется, потому что мысли крамольные хотя тоже запрещены, но проникнуть в них «подлежащему» начальству, увы, никак невозможно. И еще совершенно свободно можешь ты умереть. Это ни в какой степени не возбраняется.
— Дубровинский!
Надо идти. Сейчас этот конвойный жандарм — твое «подлежащее» начальство. А в будущее пока и не пытайся заглядывать.
Но про себя знай и твердо помни: ты революционер и ты должен быть духом силен. Только тогда тебя ничто, никакая злая воля не сломит.
Итак, наберись мужества, решимости, твердости. Не на четыре года — на всю жизнь. С этого часа у тебя пойдет отсчет совсем нового времени. Еще один новый отсчет.

Часть вторая
1
Никому не простится, если даже в нечаянном вскрике душевной боли вырвется о земле слово «проклятая». Никому не простится, как бы тяжко временами на ней ни складывалась жизнь человека. Земля для всех и повсюду щедра и добра. Злой ее делают злые люди.
Разве проклятой была земля сибирская для Василия Пояркова, Ерофея Хабарова и еще многих-многих ватаг первопроходцев, в радостном удивлении двигавшихся на восток? Разве не был безмерно счастлив тот, кто выстроил дом себе на этой земле по доброй своей воле? И разве не стала потом эта ликующая земля действительно злой для тысяч и тысяч политических ссыльных и каторжников?
В Якутию, в Забайкалье, в Сибирь, на север европейской части страны, в просторы Средней Азии, во все дальние концы необъятной Российской империи гнали их по этапу, подчеркивая всячески: ты стремился к свободе — так получай неволю; ты боролся за достоинство человеческое, за права человеческие — так обратись в частицу стада, над которым свистит бич хозяина.
И все равно, в цепях ли бредут эти люди или, устало понурив головы, незакованными вышагивают по тяжким дорогам, идут ли в рудники, на каторгу, на вечное поселение или в административную срочную ссылку, — это лишь различные степени безубийственной казни. А общее для всех ссыльных одно: на той земле, где жить тебе по приказу, — жить изгоем. Жить всегда под бдительным оком стражника, даже если ты не в тюрьме; жить, не переступая черты — одной версты вокруг города или поселка, где определено тебе место; работать, добывать хлеб насущный только силой рук своих, даже если ты болен, если нет сил у тебя для тяжелой работы. Ученость здесь ни к чему, ученость твоя — это только твое несчастье.
Все происходит благопристойно. Царь милостив. И милостивы его министры и прокуроры. Ссылка не виселица. Ссыльному выплачивается даже «содержание» — ровно столько, чтобы на каждый день купить фунт черного хлеба. А на одежду, на обувь и на оплату жилья зарабатывай киркой и лопатой или иным таким же тяжким способом, если вообще добудешь себе работу. Впрочем, надейся еще на родных, если есть они. А нет — уж как хочешь. Так месяц за месяцем и год за годом…
И не каждый пришедший в ссылку сильным и молодым, даже «всего» на три или четыре года, потом вернется отсюда с прежним огоньком в крови. На это и расчет. Истомить, измучить, надломить человека нравственно и физически. А когда человек землю, где живет и за счастье которой борется, в минуту слабости и отчаяния назовет «проклятой» — тогда станет он уже не опасным. Шаг за шагом постепенно отступит, выйдет совсем из борьбы. На это, на это расчет.
Он иногда оправдывается. И подлые и просто слабые люди могут сыскаться везде. Но тот, кто убежден в правоте своего дела, в его справедливости, в благородстве поставленной перед собой цели, — тот вынесет все. Не убоится виселицы, не убоится карцеров и одиночных камер в тюрьме, не убоится тем более ссылки, где все-таки небо открыто и где рядом с тобою товарищи.
Уездный городок Яранск — двести двадцать верст в сторону от губернского города — предстал перед этапной партией ссыльных, в которой оказался Дубровинский, на пятьдесят шестой день пути, включая в этот счет томительно-долгие ожидания в пересыльных тюрьмах Казани и Вятки.
Именно эти ожидания да еще ночевки по дороге в этапных избах были труднее всего. Духота, скученность, грязь, жесткое кольцо отпетых уголовников, возводящих себя над политическими в роль божков, которым все дозволено и которым все должны служить и подчиняться. Уголовники захватывали лучшие места, вынуждая политических ютиться где попало. Нахально отнимали у них полагающиеся порции хлеба, запасы продуктов, взятых из дому. Отнимали силой, осыпая при это еще и градом оскорблений, ругательств.
Дубровинский не мог мириться с этим. Любое насилие, произвол, от кого бы они ни исходили — от тюремного и этапного начальства или от распоясавшихся, иногда поощряемых конвоем уголовных преступников, — вызывали у него решительный протест. Не яростным вскриком, не ответным физическим отпором, для этого он был просто мускульно слаб, — он возвышался всегда над гонителями чувством несгибаемого достоинства. И тихие, спокойные, но мужественно и твердо сказанные им слова, исполненные веры в справедливость того, что он защищает, оказывались более действенными, чем несдержанный гнев или бессильные слезы товарищей, попавших в такое же, как у него, положение.