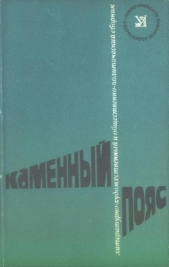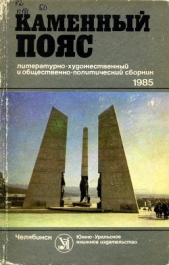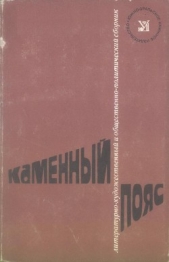— За семьдесят ему, капельмейстеру… Сколько годов прошло! — вздыхал дед.
И опять зачалась беседа о той далекой, давно минувшей войне, где он, крестьянский сын, впервые хлебнул горя. Крутого, солдатского. Незабываемого. Но там же, на войне, гремевшей на сопках Маньчжурии, он осознал, что не зря живет на земле. И в этом помог ему он, капельмейстер. Помогла его музыка. Знаменитая плач-песня.
Дед сидел, смотрел невидящими глазами в угол, где еще недавно висела невесть какая, но дорогая для него картина, и о чем-то думал…
Может, вспоминал он свой полк, боевых товарищей, из которых уже многие ушли туда, откуда не возвращаются? А может, думал о том, что уже близок и его час, и сокрушался о сыновьях? Где они, в какой земле остались сыны-соколы?! На Балканах, в Польше или в Германии? А может, пали смертью храбрых на сопках Маньчжурии, в тех местах, где когда-то сражался и был ранен он и где тогда, в тяжкие годы испытаний, родилась плач-песня.
Давно остыл чай. Задумавшись, я смотрел на деда, и мне чудилось, будто в его руках плачет скрипка. Плачет о сыновьях, которых уже не дождаться, об ушедшей жизни, которую не вернуть, и в этом плаче встает далекая страна Маньчжурия. И уже, кроме скрипки, — оркестр… рассказывающий о героях. Стонет, рыдает оркестр, и передним старый, седой капельмейстер Шатров.
Сергей Борисов
СТИХИ
ВЕСНА
Стонут сваи, рвутся снасти —
уж недолго до беды…
Шлюзы душ откройте настежь
для такой большой воды!
Пусть омоет вал певучий
чувства, мысли и слова,
чтоб от жизни, как от кручи,
закружилась голова,
чтоб царила буйно, живо
волн неистовая власть,
чтоб, как паводок, по жилам
кровь мятежная рвалась
и, гремя по перекатам,
бил и рядом, и вдали
страстно, празднично и свято
гулкий колокол земли.
* * *
Видение детства, в беспамятстве лет
спасенное сердцем, хранимое мной…
Как легкая птица, летит за спиной
его непомеркший полуденный свет…
Гнедой жеребенок башкирских кровей.
Худая пролетка. Тугая шлея.
Сливаются спицы. Пылит колея,
пробитая в рыжей июльской траве.
И сладкая дрема. И вскрик от толчка.
И снова равнина. Суха. Горяча.
И желтое солнце лежит на плечах.
И даже под веками жарко зрачкам.
Мальчишка счастливых двенадцати лет,
я еду в деревню… Сквозь марево дня
веселая небыль уносит меня.
И скачет гнедой жеребенок вослед.
Шальной жеребенок башкирских кровей.
И белыми снами плывут облака…
И все в настоящем… И мысль далека,
что это лишь памятью станет моей.
ДОМ
Фасад весь в трещинах, в них зеленеет мох,
дом от крыльца до крыши тронут тленом.
Клен за калиткой вывихнул колено —
хотел прийти на помощь, но не смог.
Дом грустно, как в побитые очки,
глядит вокруг глазами низких окон…
Его вчера покинули сверчки,
ему без них темно и одиноко.
Дом доживает век… Ты посмотри,
как он за годы долгие натружен
метелями и грозами — снаружи,
зачатьями и свадьбами — внутри.
Он шепотом прощается с тобой,
уже сродни старинному поверью,
стеная покосившейся трубой,
рассохшейся поскрипывая дверью.
Пойми его… Погладь его рукой
по ряби стен, по выцветшим обоям.
Пусть вам легко припомнится обоим
минувших лет счастливый непокой,
когда ты жизнь менял на чудеса,
а дом не знал ни сумерек, ни прели,
и в окнах лампы круглые горели,
и в комнатах звучали голоса…
* * *
Уживчивость… Средь прочих благ —
необходимейшее благо.
Бесцветный лик. Нейтральный флаг.
И осторожный шорох шага.
И обреченным на износ
до неминуемого часа
таится сердце-альбинос
под кожей общего окраса.
Ко всем любезная душа
не осквернит себя промашкой…
А надо б бранью — по ушам
и по лицу — ладонью тяжкой.
* * *
Друг мой единственный, слово живое,
нас, неприкаянных, стало быть, двое.
Злато в руках или медный пятак —
мы друг без друга не можем никак.
Это не глупо и это не странно…
Бродим ли вместе тропою тумана,
областью малой, страною большой,
плохо ли нам или нам хорошо —
это не блажь, не каприз, не причуда.
Просто, дружище, мы родом оттуда,
где, молодыми громами дыша,
так и взросли мы: я — плоть, ты — душа.
ДЕРЕВЬЯ
Деревья умирают позже нас,
Печальную скрывая перемену.
Сломи им ветвь иль отвори им вену —
они тебя осудят не сейчас.
Когда года туманные пройдут
и ветры их повалят и иссушат,
уже не нам, а нашим грешным душам
они за боль былую воздадут.
* * *
О эта блажь календаря,
когда — ва-банк, с туза —
в канун глухого октября
ударила гроза.
Не с целью душу омрачить,
а лишь играя в злость,
совсем по-летнему в ночи
блистало и рвалось.
И ливень шумно хохотал
над собственной виной,
что соблюдаться перестал
порядок временной.
Но в сердце вызов зрел вчерне.
Как долго ты, беглец,
в чужой скитался стороне,
чтоб хлынуть наконец!
Нежданно рушась из-за гор,
ты опоздал на грех…
Когда исполнен приговор,
помилованье — в смех.