Двойной портрет
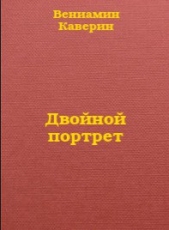
Двойной портрет читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Смотри, — сказал он, подведя меня к окну, из которого открывался обыкновенный вид на стену соседнего дома. — Видишь?
Тесный, старопетербургский двор был пуст. К залатанной крыше сарая прилепился высокий деревянный домик с лесенкой и длинным шестом. Голубятня? Но и домик был безжизненно пуст.
— Ничего не вижу.
— Присмотрись.
И я увидел — не двор, а воздух двора, рассеянную, незримо-мелкую пепельную пыль, неподвижно стоявшую в каменном узком колодце.
— Что это?
Он усмехнулся.
— Память жгут, — сказал он. — Давно — и каждую ночь.
И он заговорил о гибели писем, фотографий, документов, в которых с невообразимым своеобразием отпечаталась частная жизнь, об осколках времени — драгоценных, потому что из них складывается история народа.
— Я схожу с ума, — сказал он; — когда думаю, что каждую ночь тысячи людей бросают в огонь свои дневники.
Казалось, давно забылись, померкли в памяти эти дни, пустой двор, запах гари, улетевшие голуби, легкий пепел в лучах осеннего солнца! Но как на черно-белом экране, вспыхнула передо мной эта сцена, когда я подумал, что вслед за «опровержением» все бумаги по снегиревскому делу будут брошены в мусорный ящик.
Я позвонил Кузину.
— Вам они больше не нужны. А мне — кто знает, — может быть, пригодятся?
И он привез мне несколько толстых папок, битком набитых запросами, доносами, справками, докладными записками — сотни страниц, полных злобы, скрытой ненависти, откровенного страха. Не надо было обладать дарованием историка, чтобы понять, с какой отчетливостью отразилась в этих бумагах шаткая, ломающаяся атмосфера начала пятидесятых годов. Мало сказать, что это было интересное чтение: я не мог оторваться от энергично, неустанно развертывающегося зрелища борьбы между кривдой и правдой. Здесь можно было найти и поражающую замкнутость душевной жизни, и ненависть к самой природе новизны — и скромную смелость людей, давно нашедших свою дорогу. За каждым письмом угадывался человек, как бы вписанный в картину десятилетия. Это был целый мир, внезапно раскрывшийся, меняющийся, необъясненный, требующий участия и разгадки.
58
Иван Александрович был недоволен тем, что Остроградский опоздал, потому что придавал его встрече: с Гладышевым особенное значение. Анатолий Осипович понял это сразу — и не только потому, что у Кошкина был непривычный торжественно-взволнованный вид. Квартира на Тверском бульваре, обжитая, уютная и все же напоминавшая чем-то запущенную дачу в Лазаревке, была тщательно прибрана, полы натерты, стол накрыт не в маленькой столовой, а в ярко освещенном просторном кабинете. Старушка-домработница, в лихо сбившемся набок чепце, летала из комнаты в комнату, как будто ей было восемнадцать лет, и Кошкин, распоряжаясь, шипел на нее тоже как-то по-молодому. Разговор начался хорошо, но сразу же ушел куда-то в сторону, и вернуть его в задуманную колею оказалось не так-то просто.
Анатолий Осипович не знал, почему он не рассчитывал, что эта встреча может существенно изменить его положение. Но сам Гладышев интересовал его — и глубоко. Он был деятелем, причастным к тому, что происходило на магистралях политической жизни, и это, по-видимому, не мешало ему с размахом действовать в науке. Сейчас этот человек, распоряжавшийся десятками институтов и сотнями лабораторий, слушал Юру Челпанова, которому, кажется, было почти безразлично, какое место занимает Гладышев в научной и государственной иерархии. Юра на этот раз был не в рыжем толстом свитере, а в новом черном костюме, сидевшем на нем не особенно ловко. Рассказывал он о туристском походе на байдарках вдоль какой-то порожистой реки Приполярного Урала — и Гладышев слушал его с интересом. Это и было в нем самое приятное — живой, почти детский интерес, с которым, весело щурясь, он слушал Юру. Вообще же он не очень понравился Анатолию Осиповичу — по меньшей мере в первые минуты знакомства. В нем было заметно несовпадение между тем, что он говорил, и тем, что думал, характерное для людей, не раз испытавших на других свою решительность и влияние. Он был поджарый, седой. «И, видать, не робкого десятка», — подумал Остроградский, глядя на его бледное и сильное лицо с глубоко сидящими глазами.
Вечер проходил прекрасно, тем более что и Анатолию Осиповичу было о чем рассказать — еще в тридцатых годах он был с знаменитым Абалаковым на Памире. Но Кошкин все волновался — очевидно, считал, что давно пора перейти от байдарочных походов, от мошки, замучившей Юру и его товарищей, от насмешившей всех ночевки в лесу рядом с медведем к делу, а дело было связано с организацией строившегося по поручению правительства научного центра.
Наконец сели за стол, и тут, как на грех, Юра заговорил о своей, общей с Остроградским работе. Работа шла, но кое-что не получалось, и Анатолий Осипович стал доказывать, что Юра должен сделать то же самое, но не тогда и не так.
Гладышев попросил рассказать о сущности спора, и пришлось вернуться к первоначальной мысли — той, которую Остроградский привез из лагеря в Москву. Очевидно, она поразила Гладышева, потому что он стал слушать Остроградского уже не с прежним «туристским» интересом, а с каким-то совсем другим, заставившим слабо порозоветь его бледные щеки.
59
Ольга Прохоровна проснулась со странным чувством, что кто-то стоит за дверью и терпеливо ждет, когда она откроет глаза. Она прислушалась, испуганная, с медленно забившимся сердцем. В комнате было темно, чуть виднелась косая, наклоненная ниша окна. Да, кто-то негромко, но настойчиво погромыхивал ручкой.
— Кто там?
— Это я, открой, пожалуйста, — чуть слышно попросил Остроградский.
— Боже мой!
Она вскочила, накинула халатик. Он быстро вошел.
— Что случилось?
— Да просто засиделся у Кошкина и не мог вернуться к тете Лизе так поздно. А у него остаться тоже не мог. Ты дрожишь?
— Я испугалась.
— Милая моя. Ну, ложись скорее.
Она легла, и он крепко укутал ее, как ребенка.
— Тебя никто не заметил?
— Не знаю. Едва ли. Все спят. Люди и гады. Три часа ночи.
— Господи, как хорошо, что ты пришел! Ну, рассказывай.
— О чем?
— Я вижу, что тебе хочется о чем-то мне рассказать.
— Это правда.
Они говорили шепотом.
— У тебя холодные руки.
— Ночь прохладная. Я шел быстро и все-таки замерз.
Ей снова захотелось сказать, что надо было купить другой костюм, поплотнее, и она опять не сказала.
— Так что же случилось?
Он был теперь совсем другой, чем вечером, когда они расстались у сквера. Он был в том состоянии сосредоточенности, раздвоенности, когда, как бы участвуя во всем происходившем вокруг, он на деле участвовал только в непрестанной работе обдумывания, не прекращающейся ни на минуту. Она часто видела его таким в Лазаревке и всегда испытывала и нежное, как к ребенку, и немного испуганное, и благоговейное чувство.
— Хочешь чаю?
— Ну что ты! Ты уже легла.
— Подумаешь!
Она зажгла керогаз и поставила чайник.
— Я смешаю индийский с грузинским, как мы делали в Лазаревке. Это вкусно.
— Спасибо.
Он тихонько посвистывал, раскачиваясь на носках и заложив руки в карманы. Ольга Прохоровна поцеловала его.
— От тебя пахнет вином.
— Это оттого, что мы пили. Там был Гладышев.
— А кто такой Гладышев?
Он стал рассказывать, останавливаясь, вспоминая, поглядывая на нее хитрыми, счастливыми, отсутствутощими глазами.
— Его тоже сажали, но ненадолго. Ивану Александровичу хотелось, чтобы я рассказал ему о моей затее, Я рассказал. Говорил три часа. Даже охрип. Я охрип?
— Нет. А Юра был?
— В том-то и дело, — виноватым голосом сказал Остроградский.
Юра пришел с новыми неожиданными возражениями, и они разговаривали до двух часов ночи, а Кошкин и руководитель будущего научного центра сидели тихо, как мышки, и слушали.
— А потом он вдруг предложил мне институт.

























