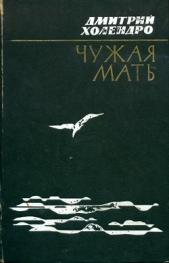Избранные произведения в 2 томах. Том 1

Избранные произведения в 2 томах. Том 1 читать книгу онлайн
Имя Дмитрия Михайловича Холендро, автора многочисленных повестей и рассказов, хорошо известно советскому и зарубежному читателю.
В первый том включены произведения о Великой Отечественной воине, дорогами которой прошел наводчик орудия младший сержант Дмитрий Холендро, впоследствии фронтовой корреспондент армейской газеты. Это повести «Яблоки сорок первого года» (по которой снят одноименный фильм), «Пушка», «Плавни» и рассказы «Вечер любви», «За подвигом» и др. Все они посвящены мужеству советского солдата, всю Европу заслонившего своею грудью от немецкого фашизма, ежедневно на войне решавшего проблему выбора между правом жить и долгом пожертвовать своею жизнью ради спасения Родины.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А где Лушин?
— Запасает продукты…
— …все переживания оставив на совести интеллигентов, — договорил Эдька. — А с него как с гуся вода!
— Есть хлеб, который он приносит, и упрекать его за черствую душу? Это интеллигентно, Музырь? В этом вашем цинизме, что ли, интеллигентность? Или в том, что Сапрыкин запрягает коней, а вы торопите?
Эка! Белка-то! Только бы Эдька не стал оправдываться, что он из караула и тоже должен отдохнуть, а Лушин пусть помогает Сапрыкину! Но Эдька сидел, пораженный словами сержанта.
— Встать!
Голос Белки не оставлял места для ответа, как ночь не оставила ни минуты покою. Эдька встал и подошел к Сапрыкину.
— Чем помочь?
— Отойди, — сказал Сапрыкин.
— Я помочь хочу!
— Посмотри на Мирона. Видишь его грудь? Помочь!
— Не ори. Скажи, что надо, я сделаю.
— Я сказал: отойди.
Я все еще лежал с закрытыми глазами.
— Прохоров! Протрите панораму!
Только что Белка казался мне справедливым. Но что это? Нарочно? Чтобы показать свою власть? Вчера он нам сказал полтора людских слова и теперь боится панибратства, напоминает, что он командир? Кому нужна панорама? Она лежала в специальном деревянном ящичке внутри лафета, обернутая в байковый лоскут, но пыль все равно проникала под него. Можно протереть панораму… Но из нее не выстрелишь, а пушка не стреляет. Она уже погубила из нашего расчета половину ребят, которые могли есть, курить, улыбаться… Извела коней…
Я тер байковым лоскутом стеклышки маленького оптического прибора, скрипел зубами и думал, что давно пора бросить эту пушку, этот гроб на колесах… С тем же бесповоротным отчаянием, которое звучало в ночном разговоре Калинкина, я вдруг понял, что мы все погибнем.
Но ведь я дал себе клятву не думать об этом.
Лучше вспоминать. О чем? За секунды пролетают куски жизни, а позади ее было так мало, и когда заставляешь себя специально выбрать и снова пережить что-то, выясняется, что в голове одна пустота. И нечего вспоминать, чтобы незаметней прожить этот рассвет, вдруг ставший долгим и тяжелым. А впереди неизвестность.
Ночью я не слышал мерного сопения Толи Калинкина, сон выбил меня из всех ощущений жизни. Сейчас я увидел Толю. Он все так же лежал на боку, подтянув ноги и сдавив между коленями сомкнутые ладони. Подмаргивающие глаза его были открыты, но все проходило мимо них. Почему-то меня зло порадовала эта голубая слепота. «Я ее не оставлю немцам…» Что еще он говорил мне, голенький? «Я за нее умереть смогу».
Вот сейчас Белка только крикнет: «Калинкин!» — и ты подпрыгнешь, как на пружине, и забудешь про Галю. Все твои мечты улетучатся. А казалось, ты и не умеешь мечтать, такой разумный. Наобещал девушке? Вставай, трус!
Он лежал неподвижно, и мне стало его жалко, как никого. Я давно приучил себя, а может, и не приучил, так само собой получилось, занимать место того человека, о котором приходилось судить. Война, а к тебе пришло то, что приходит раз в жизни. Бывает же оно…
А у тебя было?
Не было еще у меня такой девушки, чтобы я мог умереть за нее. Вот сейчас я могу умереть за всех, но не за одну.
Была девушка, перед окнами которой, прибежав из школы, я часами крутился на велосипеде вместо того, чтобы делать уроки. Мама спрашивала разъяренно: когда кончится это бестолковое увлечение велосипедом? Как мне не надоест? Чему я учу бедных младших братьев? Я же должен подавать им пример, а я заставляю их каждый день начищать велосипед до блеска, обещая покатать за это на раме и обманывая! Нахватал троек, и даже двойки появились в только что заведенной школьной новинке — дневнике. Мама не догадывалась о том, о чем знали все мальчишки со двора этой девушки, учившейся в другой школе и в другом классе. Как же ее звали?
Еще была маленькая девочка, которая подарила мне на память большой портрет Пушкина под стеклом, когда мы поменяли квартиру и я совсем уходил из той школы, где учился в младших классах. Я оставил портрет в подъезде, боясь принести его домой. Но на портрете была надпись, моя фамилия, в дверь позвонили и вернули его, а надо мной долго смеялись сестры…
Это уже далекое… А запомнилось. Все далекое я нес в себе, все это и был я.
А девушки не было. Не было у меня отчаянной спешки на свидания, чистки ботинок и заглядывания в зеркало, не было ожидания под безжалостными уличными часами с букетиком глупых незабудок, вянущих в руке. Накануне всего этого нас призвали в армию. И если мы вернемся с войны, все уже будет по-другому, без суматошных восторгов.
Самой большой потерей на войне уже стала потеря юности. Если можно было потерять то, чего не было…
Жизнь уже успела отнять у нас что-то. У кого мечту об интересной профессии. У кого девушку, обманувшую и ушедшую с другим, — это всегда беспощадно. У кого родителей. У нас уже была где-то ободрана кора, а где-то сломана ветка. Но как рассказать о том, что происходило сейчас? Не одну ветку хотели сломать, не ссадину от топора оставить, нас хотели вывернуть из почвы вместе с миром наших реальностей и сказок, со всем, чем дышалось. Из-под этого неба.
И вся ненависть, которой способна охватиться человеческая душа, прозрела и смотрела прозревшими глазами туда, откуда надвигалась на нас смертельная угроза. Фашисты! Кто они такие? Почему они гонят нас по родной земле?
— Калинкин!
Толя вскочил, будто и не лежал на траве, а Белка поискал глазами меня. Я уже завернул в байку и прятал в ящик вытертую панораму.
— И Прохоров! За старшиной!
Толя побежал трусцой, не оглядываясь, я пустился за ним, но в начале проулка, за три-четыре дома от нашей поляны, он остановился как вкопанный.
— Дальше я не пойду.
— Почему?
— Там Галя. Там, где старшина. — Он показал мне на дом со старой черепичной крышей, высоко вставшей над зеленью. — Я подожду вас.
Старшина сидел за столом, перед зеркалом, с крахмальным рушником на коленях, которым он не рисковал промокать порезы на только что выбритом лице, чтобы не оставить о себе плохой памяти, и промокал их кончиком своего по-старшински свежего носового платка, выполосканного вчера в самодельной бане. Порезы были бедой Примака. Он всегда ходил с засохшими царапинами на щеках и выспрашивал у младших командиров, нет ли где кровоостанавливающих квасцов. Они были дефицитом в аптеках.
— Доброе утро, — сказал я.
— Готово, — ответил он и положил рушник на край стола, аккуратно свернув его.
— Кровь, — сказал я, показывая пальцем, чтобы протянуть время хоть немного и увидеть Галю, потому что в комнате никого не было, кроме старшины.
— Подсохнет.
За распахнутым окном послышалось:
— Галю! Там вже прыйшлы? Неси глечик, доченька. Дай хлопчыкам кружки. Хлибця дай, Галю!.. Стий, зараза! Ось я тоби!
Это уже относилось к корове. Слезы задавили женский голос, стало только слышнее, как струи молока бьют в молочную пену и в стенки ведра. Я выглянул в окно. Журчание это доносилось из хлева, и пахло на весь двор молоком, как обычно пахнет в деревне по утрам. Жаль, Калинкин не слышал, молочное дитя…
Галя сняла глечик с кола и побежала к хлеву. Она показалась мне четырнадцатилетней девочкой, если бы я не знал, сколько ей. Я увидел ее спину. Ниже пояса вытянулись по спине две тяжелые косы. На белой блузке они чернели в утреннем свете.
А лицо? В окно долетали материнские причитания:
— Ой, Галечка!.. Та я ж все розумию. Али батьки нема!
— Батько на вийни, мамо.
— То ж й воно, що на вийни! И ты йдешь. А я? Одна? Ось чого я плачу.
— Не плачьте, мамо!
— Ой, Галю, Галю! Не одна йдешь. Це ж грих!
— Вин мене любить, а я його. Який грих, колы я щастлыва, мамо!
— Йды!
Мы со старшиной вышли во двор. Старшина налег на мое плечо, спускаясь с крыльца, и я едва устоял и поругал Толю. И рассердился, что был один. Галя наливала молоко в кружки, поднося их к самому горлу глечика и ставя на скамейку, с краю которой белел узел ее вещей, связанный в дорогу. Мать держалась за него обеими руками, стоя перед ним, низкорослая, немолодая — оттого, наверно, что вдвое постарела за ночь, а Галя занималась молоком, чтобы не смотреть на нее и не заголосить. Глечик брякал по кружке, молоко проливалось. Мать все причитала, что, может быть, они не увидятся больше, и так могло случиться, и, может быть, случилось. Но до чего же обыкновенно выглядели эти кружки с молоком и то, что мы взяли и выпили его, когда мать стихла и протянула нам молоко, кружку старшине и кружку мне, и пока мы пили и вытирали губы, тенькали воробьи на ветках, и пятнистая кошка горбилась на крыльце.