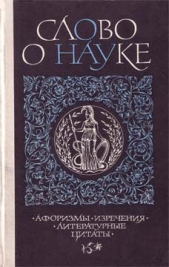Борьба за мир

Борьба за мир читать книгу онлайн
Первая книга трилогии о Великой Отечественной войне и послевоенном восстановлении писалась «по горячим следам», в 1943-47-м годах. Обширный многонаселенный роман изображает зверства фашистов, героический подвиг советского тыла, фронтовые будни. Действие его разворачивается на переднем крае, в партизанском лагере, на Урале, где директором военного завода назначен главный герой романа Николай Кораблёв, и на оккупированной территории, где осталась жена Кораблёва Татьяна Половцева…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нина кинулась в сторону и налетела на немецкого солдата. Тот отбросил ее к Гансу Коху, как мяч. Ганс Кох засмеялся… и это парализовало Нину.
Ее щипали, били, выпытывая у нее о партизанах. Но она ничего не знала и только вскрикивала:
— Мама! Мамочка! Мама!
Ганс Кох приказал ее раздеть. Она еще совсем не походила на женщину. И когда она увидела, что на нее со всех сторон смотрят масляно-липкие глаза с незнакомым, непонятным ей, пугающим ее выражением, она не только ужаснулась, но и смутилась. Смутилась и, невольно прикрывая руками свои еле пробивающиеся груди, защищаясь от этих пакостных глаз, присела на пол.
Ганс Кох сказал:
— Пауль Леблан. Ты сегодня имеешь счастье обладать этой девочкой. Нет, не здесь. Здесь бы кто не согласился. А там. На площади.
Пауль Леблан по-солдатски вытянулся и покраснел, затем просительно заговорил о том, что он готов служить Гансу Коху, но у него нет опыта, а вот солдат Генрих уже не первый раз свершает такое и он заслужил.
— Ах, да, да, — воскликнул Ганс Кох. — Солдат Генрих заслужил — это его награда. Надо быть справедливым.
Солдат Генрих стоял тут же. Он походил на откормленного, глупого вола.
А у дверей подвала билась Груша, обессиленным голосом выкрикивая одно и то же:
— Ребенок ведь! По глупости она! Ребенок ведь!
К вечеру все жители села были согнаны на базарную площадь, где стояла виселица и где на прочерневшей от навоза дороге все еще лежал старик Ермолай Агапов. Рядом с виселицей было построено нечто похожее на лобное место. И когда всех жителей села — стариков, старух, калек, женщин с грудными детьми — согнали на площадь, из подвала вышли Ганс Кох и несколько солдат. Солдаты несли кого-то, завернутого в одеяло. Рассекая толпу, они все прошли на лобное место. Ганс Кох подал команду. Солдаты, вооруженные автоматами, выкатили на лобное место два пулемета, а Савелий Раков по приказанию Ганса Коха крикнул:
— Сказано, не расходиться. Кто будет удирать, в того из пулемета. Вот что… — и запнулся, как бы чем-то подавись.
— А-а-а! — тихо вырвалось из толпы. — Ежа бы тебе в глотку поганую втиснуть.
Ганс Кох снова что-то сказал своим солдатам. Те быстро развернули одеяло. Из одеяла выскользнула, как рыбка, в сереньком платьице Нина. Она села на нестроганные доски лобного места, протерла глаза тонкими пальцами, недоуменно посмотрела на все стороны, еще ничего не понимая, и вдруг вскочила, прикрывая лицо руками.
— Ага! Птишка, — усмехнулся Ганс Кох и что-то настойчиво предложил Савелию Ракову.
Тот, давясь, хватаясь рукой за горло, весь красный, будто вымазанный кровью, обращаясь к своим односельчанам, промямлил:
— Наказание… Значит, как наказание значит. Это… ну, вот это… Значит. Солдат Генрих, значит.
Четко отбивая шаг, на подмостки вышел грузный, похожий на откормленного и глупого вола солдат Генрих… Нина закричала пронзительно, тоненько:
— Мама-а-а! Мамочка-а-а! Где ты-ы?
— Тут я. Тут, Нинок, — ответила мать из толпы и запрыгала на одной ноге, как бы собираясь вспорхнуть и куда-то улететь.
А люди, уже не боясь пулеметов, хлынули во все стороны, унося детей своих от звериного бесчинства…
Ганс Кох выстрелил — прямо в лицо Ниночки.
Все это видела Татьяна. Она через окно большого каменного старинного дома видела всю площадь, людей, лобное место. Иногда она забывалась, как забывается человек в тяжелой болезни, и ей казалось, что все это страшный кошмар, возврат куда-то в далекое, дикое… А когда приходила в себя, то ей хотелось вскочить на подоконник и кричать, кричать: «Люди! Да что же вы? Вас так много. Да как же это вы допускаете? Да вы же можете растерзать их — этих зверей с чужой земли», — но она знала, что если она так крикнет, то сейчас же застрочат пулеметы, тупо глядящие своими дулами на людей. И вся сжималась, шепча: «Но что же это? Вот какой шквал надвигается на нашу страну! На нашу страну! На нашу страну! Но где она, наша страна? Разве это она? И Савелий Раков. Сколько раз он бывал у своих односельчан и, наверное, не раз сидел с ними за одним столом, называл их своими братьями… Да что же случилось? Как же это Савелий стал служить тем — чужим? Все уничтожается. Все. Честность, братство. И все это делают они — вот эти вооруженные звери. И оставаться с ними? Выполнять то, что приказывают они? Ах, «ювелирный магазин», «любезный Татьян». Проклятие! Проклятие! Нет! Не ждать! Ни единой минуты не ждать», — она посмотрела вдаль.
Далеко за сосновым бором уже по-весеннему закатывалось багровое солнце. Лучи солнца скользили по верхушкам деревьев и, вонзаясь в небо, заливали его такими лиловыми яркими красками, что от них невозможно было оторвать глаз.
— Мир живет. Мир принадлежит человеку, — проговорила Татьяна и вдруг почувствовала, что в ней родилось что-то такое, что руководило теми, кто шел на каторгу, на виселицу, под расстрел за лучшие человеческие мечты. — Да, да, — проговорила она. — Вот когда я должна свершить то — большое, человеческое, — она шагнула к кровати, вынула из-под ковра нож-финку.
Осмотрев нож, она снова спрятала его и вошла в другую комнату, где у кровати Виктора сидела Мария Петровна, теперь еще более молчаливая. Склонившись над сыном. Татьяна поцеловала его и, не глядя на мать, сказала твердо, требующе:
— Мама. Ты можешь для меня сделать одно дело?
— А что тебе?
— Мама, — продолжала, уже бледнея, Татьяна. — Я больше не могу. Не могу-у. И ты уходи. Ты возьми Виктора и ступай вон туда — к лесу. Ступай и жди меня. И если я не приду к тебе сегодня ночью, значит ты меня не жди. А ступай. Иди и иди. Иди в другие села. Скажи, что ты крестьянка. И донеси… мама, я тебя прошу… донеси Виктора до Николая…
Мать по тону дочери поняла, что та решилась на что-то неотвратимое, от чего ее отговорить нельзя, и тихо произнесла:
— Хорошо! Уйду! И буду ждать. Уходить надо из этого вертепа. Может, тебе помочь?
— Да! Да! Дай мне халат!
Мать принесла халат. Татьяна сбросила с себя жакет и, морщась, надела халат, собрала волосы в пучок, как перед сном, затем вошла в комнату Егора Панкратьевича и легла в постель, где постоянно спал Ганс Кох.
— Ложусь, как в гроб, — и, чуть погодя: — Я очень хочу жить, мама. Очень, — и снова, чуть погодя, о чем-то думая: — И ты картину мою «Днепр» возьми, мама. А мне… мне дай там в моей комнате под ковром нож. Дай, мама.
Мать, тоже бледнея, трясущимися руками достала из-под ковра нож-финку и протянула его дочери. Но та слабо сказала:
— Под голову, мама, — и еще тише добавила: — Ну вот. Зажги свет. Все лампочки зажги, — и, глянув во двор, видя, как из-под горы, освещенной фонарем, идет Ганс Кох, она заторопилась: — Ну. Ну. Мама. Ступай! Поцелуй меня и ступай.
Мария Петровна поцеловала ее сухими, горячими губами и вышла.
Татьяна слышала, как мать защелкала выключателями в комнатах, потом она что-то проговорила, уже неся на руках закутанного Виктора. Подойдя к Татьяне, она, еще раз поцеловав ее, шепнула:
— Его поцелуй… Смотри не разбуди.
А когда Татьяна поцеловала Виктора, мать сказала:
— Дочка моя… Доченька… Я жду тебя, — и скрылась.
В квартиру вместе с Паулем Лебланом вошел Ганс Кох. Увидев всюду зажженный свет, он, возбужденный еще событиями дня, воскликнул:
— О-о-о! Какой иллюминаций. Торжество есть! Так и должно быть: победителя следует встречать как победителя. Этот извечно, — крупным шагом он прошел в комнату Егора Панкратьевича и, увидя в постели Татьяну, стих, чуть попятился, пробормотал изумленно-довольно:
— О-о-о! Благодарю вас, — затем на каблуках повернулся к Паулю Леблану, что-то шепнул ему, тот быстро скрылся, а Ганс Кох пружинистой походкой, как бы боясь спугнуть Татьяну, прошел в угол, сбросил с себя одежду и, шлепая босыми ногами, направился к постели.
Он только и успел сказать:
— О-о-о! Королева моя!