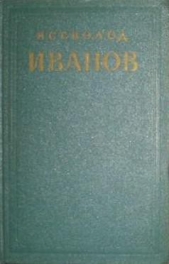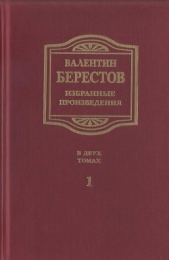Избранные произведения. Том 1
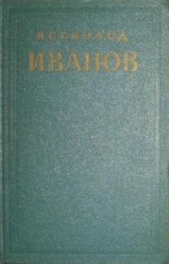
Избранные произведения. Том 1 читать книгу онлайн
В настоящее двухтомное издание я включил часть произведений разных лет, которые, как мне кажется, отображают мой путь в советской литературе.
В первый том входят повести «Партизаны» и «Бронепоезд 14–69», три цикла рассказов: о гражданской войне, о недавних днях и о далеком прошлом; книга «Встречи с Максимом Горьким» и пьеса «Ломоносов».
Второй том составляет роман «Пархоменко» о легендарном герое гражданской войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Огонь смолевой щепы широко вспыхивает на одном из камней. На мгновение огромный камень приобретает очертания дома.
— Кто? — кричим мы. — Кто там? Кто идет?..
Слышу — седло мое четко, как затвор винтовки. Мысли бегства в последние недели научили меня вспоминать сначала о седле, затем о винтовке.
Свист повторяется, он наполнен какой-то седой хрипотой. Я вдруг вспоминаю его: так глухой ночью разбежавшееся стадо призывает пастух. Он уже знает, что стадо не вернется. Это свист отчаяния, а не призыва. Одни лишь огорченные собаки трутся у ног. Пуста теплая, умятая тушами земля, ветер неслышно уносит клочки шерсти — остатки его стада.
Я молчу. Конь храпит.
Дрожит на камне горящая щепа. Ее оранжевый пламень густеет. Наконец, она тухнет. Я кричу опять:
— Кто-о?..
— Обожди, апа… — шепчет мне Докай. — Тохта… Обожди.
Мы ждем.
Кустарники вдруг начинают шипеть.
Нет, это шаги. Они тяжелы, и мне вспоминается железная нога строителя Каракорума. Они медленны. Дыхание идущего таково, будто он дышит железными легкими.
Конь мой пятится, когда широкая, почти ползущая по земле серая фигура показывается из кустарников.
— Ты кто? — хрипло спрашивает он меня. — Ты кызыл-урус?
— Да, — отвечаю я, поднимая ружье, — да, кызыл-урус (что на языке пустыни значит красный русский).
— Тогда я буду говорить и целовать твое стремя, — хрипит вышедший из кустарников.
— Говори.
Опять вспыхивает щепа, и вместе с запахом смолы я явственно слышу запах трупа. И я тороплю, и конь, мотающий уздой, тоже торопит.
— Говори, подошедший ночью.
— Я говорю тебе, сидящий на кауром коне, и слова мои верны, как то, что некогда здесь вместо каракорумской полыни кузнецы умели ковать сабли лучше кузнецов белого царя, которого вы, кара-урус, зарезали. Значит, так нужно, и мне не жалко его. Я кузнец, и в джатаках подле поселков у меня есть горн, и род мой, быть может, идет от кузнецов Каракорума. Я имею стадо в пять рогатых голов; две лошади и указанное, по преданию, для бедняка число баранов. Восемь лет платил я за жену калым и платил бы, если б было нужно, еще восемьдесят ради одной встречи восхода на кошме моей юрты за чиевой перегородкой. Ее походка легче иноходцев всей Гоби, а пальцы ее, доящие кобылиц, колыхали вымя легче, чем ветер колышет ковыль, и такое колыхание было у меня на сердце, когда она подавала мне чашку, наполненную до краев айраном. Я — хороший хозяин, но, беря чашку, я плескал на кошму айран, молоко. Я не хотел быть баем, богачом; жена не хотела быть ханшей, и все-таки вчера вечером к лощине Аи-Той пришли бии и урусы-казаки с парчовыми плечами. Они вырезали мое стадо, и, думаю, кызыл-урус, им, должно быть, не хватило крови, и они на голой земле, растоптав мою жену, вырезали ее груди. Они не нашли ее сердца, потому что оно, страдая за мои стада и меня, высохло в тот вечер и было, наверно, не крупнее пылинки! Я не мог принести вам своих зарезанных овец и коров, они поедены. Я принес показать вам свою жену… Я нес ее на своих руках двадцать верст от лощины Аи-Той, чтобы ты обменял ее труп на верную винтовку…
Киргиз сдернул грязное одеяло, покрывавшее труп. Скатилась черная капля смолы и сипло зашипела на мутномалиновых кусках мяса. Рот у женщины был распорот и щека проткнута саблей.
— Ее звали Кызымиль, — сказал киргиз, сметая ногтем упавший на рану жены уголь. — Она плюнула старшине в бороду, когда тот, опившись кумыса, полез ей за ворот.
Он вдруг упал на колени и схватил мое стремя. Губы его вытолкнули из стремян мой сапог.
— Давай, урус, винтовку. Я двадцать верст нес на себе Кызымиль, она тяжелая, я ее хорошо любил и хорошо кормил. Давай! Едем?
— Едем.
Тропа несет меня к кострам моих друзей. Костры будто покрыты росой. Тропа мокра от росы, как повода узды моего коня.
1925
О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ
При Бородине
Двадцать пятого августа, накануне Бородинского сражения, неподалеку от флешей — укреплений, получивших позднее название «Багратионовых», на плоском холме, поросшем вялым и редким ольховником, встретились братья Тучковы: командир третьего резервного корпуса генерал-майор Тучков-первый и шеф Ревельского полка генерал-майор Тучков-четвертый.
Всего братьев Тучковых было трое, и все они вышли в генералы. На войне и в семье жили дружно; в походе и дома старались чаще встречаться. И надо бы им всем троим встретиться перед этой великой битвой, да не пришлось: третий брат, израненный в жестоком бою под Витебском, полонен французами. Когда братья соскочили с коней, они обнялись и прослезились: каждый из них вспомнил о брате и поклялся в душе отомстить за него. Вслух же они стали выспрашивать — какое кому дело поручено в предстоящем сражении.
Тучков-четвертый — красивый, стройный, волоокий мужчина в мундире темнозеленого цвета, нервно проводя рукой по лбу, который он увеличивал, подбривая верхние волосы, сказал:
— Я, Вихрик, клятвенно могу поднять руку: лучшего дела себе и не желал — полк защищает флеши. С нами бог и Багратион! А ты куда назначен, Вихрик?
Братья в семейном кругу называли друг друга именами, оставшимися с детства. «Вихриком» прозвали в детстве старшего брата — за его жгучую неукротимую стремительность. «Выг» — осталось за вторым; он в детстве, совсем маленьким, увидав месяц, сказал: «Она — выгнутая назад», и это показалось забавным, стали это повторять, фраза сократилась, и теперь уже плохо помнили, что значит это слово.
— Поздравляю, Выгушка. Флеши — дюжее назначение! Будете вы на них стоять, как иллюминированная картинка, — вдруг с легким раздражением проговорил Тучков-первый. — А я вчера получил специальное распоряжение главнокомандующего князя Кутузова: вывести третий мой корпус к Старой Смолянке, с тем чтобы обрушить его на неприятельский фланг и тыл, когда французы истратят последние резервы на левом фланге армии Багратиона.
— Прекрасно, Вихрик.
— Прекрасно? — Дыхание, короткое, гневное, подняло широкие плечи генерала. — Нет, не прекрасно! Прекрасно молоко, а не известковая вода. Ты можешь говорить, что я смотрю ограниченно, — говори! Но какой же я секурс, какое у меня войско, когда ко мне, накануне битвы, в корпус на четыре тысячи регулярного войска добавили семь тысяч иррегулярного?! Ополченцев! Вооруженных одними пиками! Понимаю — московское ополчение, несут крест… Нет, сударь, это вам не иллюминация, это…
— Ты, Вихрик, всегда горячишься.
— А что же, мне бледным и почтительным быть, когда они с пиками и пики расставлены по всей дуге градусного круга? Гришка, дьявол! Подтяни подпругу! — свирепым голосом, с потемневшими глазами закричал он кавалеристу, державшему его коня.
Александр Алексеевич с удовольствием смотрел на некрасивое, но пышущее силой, свежее и надменное лицо брата.
Гневная вспышка улеглась. Тучков-первый, по обыкновению бодрый, смешливый, выдумщик, развеселился. Багровость с его лица еще не сошла, но он уже хохотал над тем, что его человек с испугу так затянул брюхо коня, что тот еле дышит. Затем он обратился к Александру Алексеевичу и стал рассказывать, как приехавший вчера управляющий имением попал под французские ядра и расплакался с испугу.
— У этого на всю жизнь след от войны останется, ха-ха!
Он прислонился спиной к седлу, конь пошатнулся. Генерал громко вздохнул, и по лицу его можно было понять, что он уже придумал, как приспособить московских ратников и их пики к бою. И видно было, что выдумка эта ему очень нравится и что она будет очень неожиданна и очень страшна для француза.
— Выгушка, а ты письмо домой с управляющим пошлешь? — спросил он. — Быстро доставит, ха-ха! Посмотрел бы ты на его рожу, — лопатой испуга не снять!
Александр Алексеевич молча передал письмо. На адресе стояло имя жены его, Маргариты Михайловны. Прочтя адрес и взвесив на руке тяжелое письмо, Тучков-первый опять побагровел, но теперь уже по другой причине. Он очень любил свою семью, хотел бы писать им длинно, подробно, ласково, а письма получались слово в слово — приказ по полку. Это раздражало его, и он завидовал своему брату, письма которого всегда были образцом эпистолярного слога. Чтобы избавиться от этих глупых и унижающих мыслей, Тучков-первый поспешно спрятал письмо брата и опять заговорил о рекрутах, теперь уже снисходительно: он-то ведь знает, как поступить со своими рекрутами, со своими ополченцами! Ему показалось, что Александр Алексеевич невнимательно слушает его.