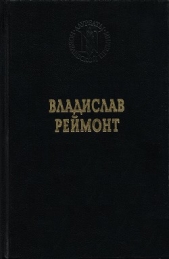Очарование темноты

Очарование темноты читать книгу онлайн
Действие романа Евгения Пермяка происходит в начале нашего века на Урале. Одним из главных героев этого повествования является молодой, предприимчивый фабрикант - миллионер Платон Акинфин.Одержимый идеями умиротворения классовых противоречий, он увлекате за собой сторонников и сподвижников, поверивших в "гармоническое сотрудничество" фабрикантов и рабочих.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Оказывается, захотели. Платон раздобыл в Москве волшебника хирурга, показавшего чудеса на первых же операциях. Он дорого стоил. Более двадцати тысяч в год давали две средние по цене палаты для привилегированных и богатых. Равновесие так равновесие.
Бесплатная койка для состоящего в Кассе рабочего обходилась в день менее восьмидесяти копеек. Полное лечение. Безупречное питание. И хороший уход. И все за счет Кассы.
С приездом второго врача, средних лет, названного в Шальве «доктором по всем болезням, окромя резательных», палат уже не хватало. Приезжали ходатаи из Тагила, Невьянска, Кушвы, из самого Екатеринбурга.
Хорошая слава бежит не тише плохой. Когда вылечиваются обреченные, когда удлиняется жизнь миллионера, которому уже намекнули, что «медицина бессильна», и он возвращается из чудодейственной шальвинской больницы здоровым-здоровехоньким и вносит за исцеление Шало-Шальвинской кассе не сто, не двести рублей, а десять, пятнадцать тысяч, при таких обстоятельствах можно расход на бесплатные койки увеличить и до рубля с гаком.
«Гармоническое равновесие взаимностей» торжествовало, вдохновляя их носителей одолевать новые ступени.
К двум дорогим, ставшим именитыми докторам добавили еще двух. Дешевых. Из совсем молодых. Дорогие врачи не могли ходить по домам. И делали это в крайних и неотложных случаях. А молодые для этого и приглашались. В Шальве вводилось неслыханное.
Рабочий, состоящий в Кассе и проработавший на заводе не менее двух лет, имел право на бесплатный вызов доктора, фельдшера или сестры. Это всегда стоило рубль доктору или полтинник фельдшеру. Попробуй полечись, когда семья жила от получки и до получки!
А тут — изволь тебе... Приезжает на лошади, с кучером. Здоровается. Внимательно, подолгу расспрашивает, затем прослушивает, прощупывает и просит запомнить или записать, как и чем лечить, а то и сам пишет на листке. А потом рецепт на лекарство. В свою фирменную аптеку, где только по заводскому номеру выдают и такие снадобья, что в большом городе не всегда найдешь.
«Равновесие взаимностей» сказывалось и здесь во взаимопомощи имущих и малоимущих, о чем не знали ни те и ни другие. И зачем им всем знать? Одни не поймут, другие оклевещут.
А люди понимали. Во всяком случае, догадывались, с кого и как это все началось.
На соборной площади в Шальве приговоренный к смерти старик, позабывший теперь о рябиновой палке, которая помогла ему меньше хромать, увидел молодого Акинфина. Старик побежал навстречу Платону мелкой рысцой, пал перед ним на колени, перекрестясь на него.
Платон оробел. Кругом люди. Кончилась обедня...
— Дедушка, дорогой мой, ну как вы так можете? — испуганно озираясь, подымал его Платон с колен.
Старик снова перекрестился на Платона и громко сказал, не ему, а всем:
— Да святится имя твое, Платон... Я ведь, сызмала зная тебя, говорил, что ты прославишь род свой и бог простит через тебя грехи породившим тебя до седьмого их колена!
Эти слова слышал и Лука Фомич, заходивший в собор послушать певчих. Ему тоже стало не по себе. И он подумал: «Не переслащает ли Платон свои медовые пряники? Когда привыкнут к ним, нелегко будет ему сбавлять сласть...»
Лука Фомич твердо был убежден, что и ласка должна знать меру, а уж что касается ублажения мастеровых, то тут особо нужно понимать, что данное им и назад не вернешь, и убавить не убавишь.
Дед-покойник Мелентий Диомидович каждую масленую неделю мешками грузил бублики в кошевы и выкидывал по улицам угощения. И как-то пропустил он или позабыл про бублики в одну масленую неделю. Весь год об этом помнил народ. То кота дохлого с бубликом на шее к воротам подкинут, то бублик из этого самого... скатают и в расписной коробке на дверную скобку привесят.
— И бублики с умом кидать надо, — поучает Лука, — а уж больницы-то даровых-то докторов... и говорить нечего. Лиши теперь попробуй их этого... Не кота дохлого, а покойничьи кости из могилы выроют и на дом доставят. И не чьи-нибудь косточки, а отцовские или дедовские. Акинфинские. Да еще напишут углем: «Для уравновешивания взаимностей» или еще чище... Найдут, что написать...
С хорошим самочувствием возвращался из собора Лука Фомич — и на тебе... Все прахом пошло. И шустовским не запьешь...
«Оно конечно, — рассуждал он, — если по совести... Нужна больница. И школа хорошая с черчением-рисованием тоже нужна. И я бы сам это мог. От души мог... А потом что?.. Коли назвался груздем, лезь в кузов... Так уж лучше в мухоморах числиться, чем в распятых праведниках на кресте висеть».
Имя Платона называлось в каждом доме. По-разному, но называлось. Одни превозносили его до превыше седьмых небес. Другие называли его ловким притворщиком, отравой в позолоченном пузырьке, а то и просто дураком, не в отца. А третьи, которых было большинство, чистосердечно не понимали, кем считать, как назвать молодого Акинфина.
Овчаров — тот весь на виду. И целей у него корыстных нет. И рабочая кровь в нем. Жалко только, что против царя и словечка худого не сказал. Усмешки не обронил. А может, и хорошо сделал, что не обронил. Оброни бы ее, так был ли бы он в такой чести и у тех, и у этих? А честь не ему нужна. Нужна только радость за тех, за кого скорбит Александр Овчаров.
А молодой-то Акинфин зачем в ту же упряжь влез?
Зачем?
Простой народ не понимает этого — одна статья. На то он и простой народ. А начальники? Инженеры? Свои и привозные... Почему они тоже насчет него шепчутся и хотят знать, каков он там? В себе? Куда ни отец, ни мать н никто, видать, не вхожи. Видать по всему, и они немногим больше других о нем знают.
И, как всегда, размышляющие, ищущие ответа и не находящие его говорят одно и то же.
Время покажет...
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Увлекшись, перо опять опередило события и снова нарушило единство времени. Исправляя это, мы снова побываем во дворце Акинфиных, теперь все чаще и чаще называемом домом, что более соответствует новой фирменной марке с изображением уравновешенных весов.
В доме Акинфиных созерцательный его глава снова предается воспоминаниям и размышлениям:
— Давно ли это было, Калерия... Не вчера ли, не в этом ли зале в такую же пору трубили трубы, пели певчие, засыпали нас цветами, заваливали подношениями и во всю-то моченьку кричали нам: «Горько! Горько!» Пили-били, плясали до одури и на другой, и на третий день... Перемешались в один Содом, засыпали в одной обнимке, а просыпались в другой. Пьяному море по колено, а богатому и того мельче... Давно ли это было, давно ли, Калерия? Будто прошло не двадцать девять лет, а мелькнуло двадцать девять дней и каждый из них как один час...
Увлекшийся воспоминаниями Лука Фомич перебирал и мелочи, называл малознаемые имена вперемежку с громкими фамилиями заводчиков, владельцев приисков, копей, лесов, распронаибогатых вдов, их превосходительных сановных гостей, всемогущих горных начальников и тут же, рядом, циркачку-наездницу, рыжего клоуна, словно проверяя крепость своей памяти, упоминал он и тех, кто пек, варил, жарил, подавал на стол, обносил вином и одарял такими улыбками, что чуялись давно забытые запахи пьянящей черемухи.
— Наша свадьба, Калерия, если прикинуть и вдуматься, — рассуждал Акинфин, возлежа на диване, — обернулась и богатой ярмаркой. Не один миллион, думаю я, прошел через нее — кому-то в приход, а кому-то в уход. Ушел, я думаю, именно в эти дни из козырных доменных королей в черную краховую масть, вечная память ему, Пармен Ключарев, а удачливый Молохов шутя-шутешеньки оттяпал две ключаревские медные печи себе. Доходной была наша свадьба для Васьки Молохова! Подумать — две печи... Обе они могли бы нашими быть, да и все другие, коли б не поторопился Платон...
— Будут нашими, — твердо сказала Калерия.
— Ты что? Молохову сын нужен, а не шарабан! Он так и сказал мне: «Помни, Лука Фомич, одна у меня она дочь, и я не неволю. Пущай ее на людях покрасуется. Но ежели кенарь хоть в чем-то поневолит ее, ты знаешь, Фомич, как я умею стрелять из дуэльной шомполки...»