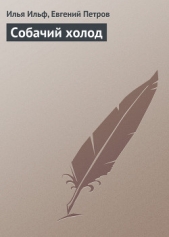Ладожский лед
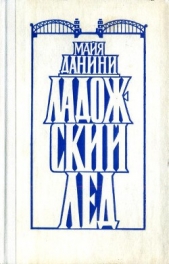
Ладожский лед читать книгу онлайн
Новая книга ленинградской писательницы Майи Данини включает произведения, относящиеся к жанру лирической прозы. Нравственная чистота общения людей с природой — основная тема многих ее произведений. О ком бы она ни писала — об ученом, хирурге, полярнике, ладожском рыбаке или о себе самой, — в ее произведениях неизменно звучит камертон детства. По нему писательница как бы проверяет и ценность, и талантливость, и нравственность своих героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Об Анне Яковлевне я всегда говорила: уж эта — настоящая моя бабушка, самая первая, любимая — вслед за мамой — не потому, что маму любила, а после — Анну Яковлевну, а потому, что мама ее любила и я следом.
Но надо сказать, что, если бы мама даже не так хорошо относилась к Анне Яковлевне, если бы я не знала ее по рассказам о ней — рассказам, которые я слышала после ее смерти от всех родных, — я бы все равно помнила ее по-своему.
Воспоминания о ней — смутные, но собственные — встают в памяти такой далекой, что, например, помню, как однажды, совсем крошечная, услышала от нее одно из первых слов, которое запомнила: наволочка.
Анна Яковлевна надевала чистую наволочку на подушку, а у старой только расстегнула пуговки, но не сняла ее совсем. Взялась за уголки чистой наволочки и надела ее прямо на старую. Грязная наволочка была снята, вытащена, выволочена из-под чистой, а чистая заволокла подушку. Анна Яковлевна навлекла ее на подушку.
Действия ее были быстрыми, ловкими, а слово было длинное и неловкое — я повторяла это слово целый день: «Наволочка, на-во-лоч-ка». Тогда же услышала от нее не ко мне обращенные слова, еще более непонятные, но смутно приятные мне:
— У нее прекрасная артикуляция.
Понятные, потому что приятные слова, которые поглаживали по голове. Так, верно, радуются собаки и коты, когда говорят: «Ах, хороший, красивый пес, какой умный, великолепный пес, очень понятливый пес, наш добрый пес», — собаки тут же нервно зевают, кладут лапы или голову вам на колени, смотрят так понимающе, после от восторга перед собой — таким умным, хорошим — валятся на спину, катаются по полу или от избытка своей хорошести вскакивают, бегут куда-то стремглав, сбивают с ног кого-то, кто несет посуду, бьют посуду и получают шлепок и много выговоров.
Примерно так же вела себя я, похваленная Анной Яковлевной, — тут же, от восторга перед тем, что у меня прекрасная артикуляция, я бежала куда-нибудь, хватала на туалете гребенку, тут же ломался у гребенки зуб, роняла духи и разливала их, и весь восторг улетучивался вместе с запахом духов, береженных мамой, редких, дорогих духов, с которыми у меня всегда были плохие отношения: я не любила духов, даже самых хороших.
Я так болезненно слышала малейшие запахи, что, казалось, могу различить человека с закрытыми глазами, как тот же щенок, который учил меня своей нелепой щенячьей радости. И я действительно, даже сонная, не открывая глаз, чувствовала, кто подошел ко мне — мама или отец, бабушка Аня или кто-то посторонний. Различала маму, которая пришла из театра, и маму, которая пришла из института, маму, которая готовила что-то или только что вышла из ванны. Первое ощущение, когда приезжал отец из экспедиции, — обонятельное: пахнет поездом, угольным, неприятным, вагонным духом, который я долго не знала сама, но, когда меня привели в вагон, сказала: «Это папин запах, папа здесь?»
Духи казались мне всегда крепкими, раздражающими, может быть вызывали неприятные ассоциации, когда, после того как я разливала мамины духи, меня наказывали, и я долго не могла отмыть руки от душного запаха духов. От этих рук пахла еда, пахли мои игрушки — потому я и не любила духов, зато как я любила запах чистого белья, принесенного с мороза, или запах ветра за городом, запах сохнущего пола, запах воды на озере, особенной, свежей воды, которую теперь так ищу и не могу найти, — исчезла та вода, тот дух свежести, вся вода теперь непременно пахнет то ли хлором, то ли ржавыми трубами, то ли болотом. А тогда, когда я не выносила духов, тогда чистая вода пахла только свежестью, детской, дивной свежестью, и Анна Яковлевна, которая всегда что-то чинила, штопала, гладила, пахла этим свежим бельем, утюгом, вафлями: глаженое белье пахнет вафлей. Еще она могла пахнуть молоком, конфетами и куклой.
Этот особенный запах куклы, еще ее куклы, — куклы, которую вынули из старинной коробки, где вместе с кукольной одеждой лежали сухие духи и флердоранж столетней давности, какое-то истлевшее саше и кружева, был самым лучшим из запахов — после свежести, — самым любимым и четко запомнившимся еще с тех времен, когда только приехала к нам Анна Яковлевна. Этот запах никогда не забывала и не путала, как то, что она говорила и как говорила. Голос ее — тихий, куда менее звучный, чем голос тети Мани, — был все-таки похож на тети Манин и так же, как тети Манин, звучал особенным, дивным, старинным образом, как клавесин, и, мешаясь с легким ароматом куклы, казался мне пахучим, прекрасным: в нем не было тлена, а только некоторая приглушенность и — необходимая — ненастроенность. Он не звучал полно и глубоко, как мамин «Бехштейн», а чуть дребезжал, как мамин же старый прямострунный рояль.
Этот запах старых коробок казался мне всегда очень выразительным. Если бы пристально разобраться в нем, то можно понять так много из того, что было и с Анной Яковлевной, и со всеми: этот запах, казалось, может воскресить историю. И в самом деле — всякая вещь, пропахшая чем-то, может явственно напомнить все события, сообщить всякие подробности и забытые детали.
Знала запах черепаховых гребенок Анны Яковлевны — тонкий запах, вероятно исходивший от ее волос, показавшийся мне запахом именно гребенок из черепахи. Упорно повторяла всем:
— Так гребенки пахнут.
— Чем пахнут?
— Черепахой.
— Какой черепахой?
— Обыкновенной черепахой, из которой сделаны.
— Не выдумывай.
На этот выговор я обижалась, но тем более утверждалась в своей правоте, и всюду, где видела черепаховую вещь, скорее нюхала ее, чтобы выяснить — тот ли это запах, и мне всегда казалось, что тот, именно так пахнут черепахи и я права.
Эти гребенки я даже отмывала водой и однажды керосином. Я хорошо помню, как взяла гребенки и унесла их в кухню, раздобыла керосин и хотела чуть-чуть взять его — наклонить бачок и взять, но керосин выплеснулся на меня, на пол, и, страдая от предчувствия неминуемого выговора, от того, что я вся пропахла не очень приятным и липучим керосином, я все-таки окунула в лужицу гребенки и помыла их, после, уже забыв все, что будет, я пускала эти гребенки, как кораблики, в лужице керосина — не помню, плавали они или нет, помню только аханье Анны Яковлевны, какие-то ее слова по поводу моей необычайной проворности по части выдумок и какие-то выговоры со стороны мамы, нелепый вопрос: «Зачем ты это сделала?» Вопрос, который заставлял забывать причину поступка, во-первых, а во-вторых, совсем не требовал объяснений с моей стороны; веселое мое объяснение вызывало потоки маминых слов, угрюмое мое молчание еще сильнее сердило маму.
Но Анна Яковлевна нисколько не сердилась — она ахала так уютно, так славно, что ее аханье мне было даже приятно — я бы всегда делала что-нибудь несуразное, чтобы только слышать ее ахи, если бы не мама.
У нас с Анной Яковлевной был свой контакт, особенный, когда я все ей объясняла, как это мне казалось, а она понимала.
Ей можно было рассказать самое удивительное свое открытие — например, что я вижу все молекулы, если плачу, а потом посмотрю на свет, сощурив глаза. Тогда в глазах появляются такие круги, в которых плавают точки — то есть молекулы или микробы.
Она никогда не смеялась тому, что слышала от меня, никогда не восклицала:
— Ах, боже мой, что за ребенок! — а только пыталась выяснить, что бы все это могло значить, что я могу видеть в самом деле.
Так, помню, как в воскресенье они, тетя Ирина или мама, играли в четыре руки. Утром Анна Яковлевна делала воскресный пирог, похожий на торт, а до того, как сесть за стол, они обязательно играли Грига, каждое воскресенье, одно и то же, одно и то же, и в конце концов мне так надоели эти пироги и игра в четыре руки, что я уже совершенно путала, где торт, где Григ, и когда в чужом месте слышала игру в четыре руки, то думала, что ем торт, а когда ела торт, то слышала Грига и уже не хотела ни того ни другого, пока не стало ничего — ни торта, ни Грига, и я поняла, что смертельно люблю Анну Яковлевну и все, что связано с ней. Я поняла, что не любила только какие-то свои ощущения воскресенья — хоть и хорошо, что все дома или уходят, но и плохо, потому что нарушен звуковой, вкусовой и прочий фон, привычный мне, а от взрослых исходит обычное воскресное раздражение. Еще дело было в том, что всегда ждала от воскресенья чего-то особенного, а особенное не происходило, и разочарование было сильнее, чем ожидание удовольствия.