Стрела времени (Повесть и рассказы)
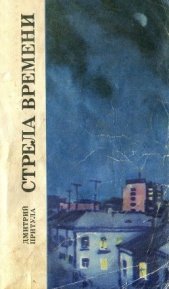
Стрела времени (Повесть и рассказы) читать книгу онлайн
Произведения ленинградского прозаика, вошедшие в сборник, различны по тематике, но в каждом из них раскрывается духовный мир человека — нашего современника, его отношение к жизни, к работе, к людям.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут девушка принесла водку в фужере, предоставив Николаю Филипповичу самому определять величину глотков, не стесняя его рюмочками. Поставила перед ним селедку.
А вот еще память услужливо помогает — яркая, ослепительная точка радости. Николай Филиппович вернулся из командировки. Боже мой, да сколько ж ему лет, ах, да всего двадцать шесть, пацан, в сущности, если смотреть с сегодняшней высотны. Праздник, да еще какой. Они ждали его, притаившись за дверью, видели из окна, как он идет по двору, — и вот он дверь распахивает — ах-ха! — напугали папу, и ой как страшно, как же я испугался, и обнял их разом, жену и сына, ждали его, и вот он дома — вся семья разом в обхвате его рук, потом закружил жену по комнате, а сын ревниво дергает его за плащ — а я, а я как же? — и тогда к потолку его под заливистый смех, под колокольчик этот, от которого заходится сердце.
А вот уж после ужина — дом родной, комната хоть одна, хоть слишком казенная, а все ж своя, лежит Николай Филиппович на кровати — в майке, в пижамных полосатых брюках, босоногий, тело разгорячено после мытья и праздничного ужина — телевизор смотрит. А телевизор-то, смешно вспомнить, величиной с кукиш, и, чтоб кукиш этот казался побольше, линза перед экраном укреплена, бокс передают, дерутся сборные Москвы и Ленинграда. Николаю Филипповичу бокс неинтересен, но ведь это счастье какое — в мерцающем голубом свете лежать на собственной кровати, — а паренек притаился, посапывает, что-то карандашом выводит на отцовских голых подошвах. Николай Филиппович скашивает на сына взгляд — что-то Сережа затеял, рисунок хочет отцу подарить.
— Все! Готово! — торжественно объявляет сын.
Николай Филиппович, изогнувшись, видит, что корявые буквы сложились в имя «Коля».
— Сам? — недоверчиво спрашивает Николай Филиппович.
Это вот недоверие и приводит сына в восторг.
— А кто же! А кто же! — прыгает он на кровати.
— Да откуда? — удивляется Николай Филиппович.
Глаза Людмилы Михайловны светятся гордостью за себя и за сына.
— Он тут неделю кашлял. Я с ним сидела, и мы по часу в день занимались. Вот выучил.
— Ну молодец! — Радости Николая Филипповича нет предела. Обнимает, вернее сказать, тискает сына. — Да ты уж взрослый. — И огорчение: — Без меня читать и писать начал. Так главное и проездишь.
Горячая, невозвратная радость.
Жаркий летний день. Зной послеобеденный. Изнемогают на скамейке жильцы, вяло покачиваются разноцветные флаги воскресной стирки, пожухли на клумбе цветы. Проезжающая машина взбивает пыль, и пыль долго не оседает. Солнце неподвижное, расплавленное, оно занимает полнеба, тусклое — в дымке жары и пыли. Движения людей ленивы, сонны. Сережа мается перед взрослыми. Большим пальцем ноги он колупает мягкий асфальт.
— Сережа, — говорит сосед Антонов, — ты бы нам посчитал.
— А до сколька? — радостно соглашается Сережа.
— До семидесяти.
Сережа, подпрыгивая, считает. Когда доходит до семидесяти, смотрит на Антонова, ожидая похвалы, а тот говорит:
— Все хорошо. Но ты пропустил число сорок шесть.
— Разве?
— Да.
И Сережа, тощий и шустрый, снова начинает считать.
— А теперь ты пропустил шестьдесят три.
— Разве?
— Да.
И все сначала. Наконец Антонов сдается.
— Сейчас полный порядок. Молодец.
А Сережа изнемогает от жары.
— Папа, — канючит он, — пойдем на залив.
— Мы уже ходили.
— А еще!
— Попозже сходим. Перед закатом.
— Ну, а жарко.
Вдруг Николаю Филипповичу приходит в голову:
— Давай душ сделаем.
— Да! — замирая от восторга, соглашается Сережа.
— Неси все лейки.
И вот они наполняют лейки, Николай Филиппович забирается на крышу сарая, торчащего в центре двора. Сын, задрав голову, смотрит на отца. На лице ожидание близкого счастья — ой! что сейчас будет! да на глазах всего двора, да какой душ!
Сарай высок, виден с него белый клок залива с замершей яхтой — безнадежно повисли ее паруса.
Вот на мальчугана льются холодные струи, он повизгивает от счастья, тощий, вертлявый, он прыгает на одной ноге, черные трусики сползли, видны тощие, с кулачок, ягодицы, смеется и Николай Филиппович, и все соседи смеются, душ этот собрал всех дворовых мальчишек, каждый тащит лейку, и наполняет водой, поднимается на сарай, передает лейку Николаю Филипповичу и ссыпается вниз под колющие струи — и всеобщее томление, визг, суета — где-то там далеко внизу, среди замедленного струения жара, замедленных же движений взрослого люда, всеобщего оглушения мальчуган его сияет от гордости за отца, который устроил волшебный душ для мальчишек всего двора. И тогда Николай Филиппович спускается вниз.
— Ах, мальчик, — вздыхает он, — я бы с удовольствием поменялся с тобой местами.
— Так давай, — простодушно вскрикивает сын, у него даже дух захватило от такой возможности. — Давай, папа.
— Если бы это было возможно, Сереженька, — смеется отец, и улыбаются мальчишескому простодушию соседи. — Но это уже невозможно.
«Осень. Прозрачное утро. Небо как будто в тумане».
Ранние заморозки. Иней на траве. Листья с деревьев не успели облететь, все вокруг тихо, покою души не мешает даже долетающая с аттракционов песня «Может быть, он некрасивый, может быть».
Сереже девять лет, он ходит в третий класс, утро воскресное, собирают желуди — так велели в школе, — домашнее задание, будут делать жучков и машины. Сережа в свитерке, в тонкой голубой шапочке. Листья дубов скручены от первых заморозков.
Выходят к Нижнему пруду. Дубы растут на горке, но желуди скатываются вниз, к воде.
Небо синее, выцветшее, скользят белые облака, солнце светит ярко, виден дальний низкий берег с желтым строем берез, осень золотая, красные кленовые пятна, прозрачность воздуха, полетность, легкое дыхание.
Здесь, на склоне горы, растет ель, зелень ее притомленная, тягучая, блеск тусклый, с некоторой даже голубизной.
«Пусть осень у дверей, я это твердо знаю».
Дали недостижимые, красная крыша домика среди берез, синее холодное стекло пруда, чахлая юная березка у самой воды, одинокая рябина — ободраны ее гроздья, лишь на верхушке осталась одна яркая гроздь, это уже ни у кого не хватило отваги снять ее, для этого нужно дерево повалить; желтая трава холодит руки, когда ищешь желуди, время удивительное, когда взор различает всякий листик, всякую ягоду на другом берегу пруда, покой в душе невозможный.
Переговариваются тихо — вот какой желудь отыскал, — оба понимают, громко говорить нельзя, суетливых движений делать не следует — повсеместная осторожность передана душе.
Николай Филиппович долго бродит внаклонку, вдруг он распрямляется, взгляд его разом охватывает все пространство от дворца до берега противоположного, вмещает и летящие вдали над желтыми склонами круговые качели. Листья на деревьях сохранны, дали прозрачны, надежда в душе не скосилась еще тоскою; и Николай Филиппович замер от сознания совершенства осеннего парка, от залившего душу восторга и умиления, он хотел поделиться этим состоянием с сыном, но не было нужных слов, да в этой тишине они были бы лишними, тогда он протянул ладонь и поймал ладонь сына и слегка сжал ее, как бы приглашая сына сделать перерыв в поисках желудей и посмотреть вокруг, и сын понял состояние отца, нет сомнения, понял и не убрал руку прочь, и тогда Николай Филиппович обнял его за плечи и прижал к своему боку, и они долго стояли молча.
Это, может быть, человек придумывает себе — вот тебя тогда такой-то человек понял до конца — и ты ему навсегда благодарен за такое понимание, — но никогда больше не было с сыном такого взаимного понимания, слитности.
А время, между тем, летело довольно-таки ускоренно, и когда, покончив с едой и питьем, Николай Филиппович взглянул на часы, то оказалось, что он проторчал здесь полтора часа. До закрытия оставалось всего полчаса.























