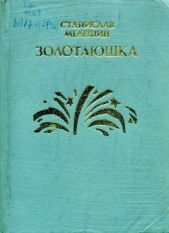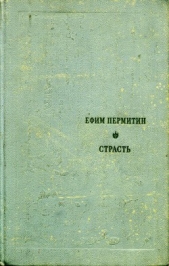Встреча на деревенской улице
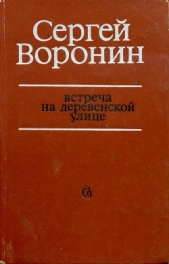
Встреча на деревенской улице читать книгу онлайн
В книгу лауреата Государственной премии имени М. Горького Сергея Воронина вошли новые повести и рассказы. Как и в прежних книгах — «Роман без любви», «Дом на бугре», «Камень Марии» и других, — писатель остается верен главной теме своего творчества, его привлекает своей неповторимостью внутренний мир современного человека, сложность и разнообразие человеческих взаимоотношений, судеб, характеров.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вот смотри, — говорил он мне, — цветок. Какой цветок?
— Фиолетовый.
— Эх ты, это — «кукушкин хлеб». А еще как его зовут? Ну, этого ты совсем не знаешь — «шмелиная смерть».
— Почему?
— А потому, что «кукушкин хлеб» цветет до самых заморозков. Сядет на него шмель, завозится, собирая пыльцу, и не заметит, как его прихватит морозом. Идешь другой раз полем, нагнешься: что, думаешь, такое, а это шмель. Застекленеет даже, бедняга. — И тут же сорвал одуванчик, приложил стебель к губам и стал свистеть.
Попробовал и я так же свистеть. Не получилось.
— Как же это, у тебя выходит, а у меня нет?
— Не набрав в уши воды, плавать не научишься, — засмеялся Женька. — Вот смотри, как надо.
И через минуту я уже насвистывал не хуже его.
И такого-то друга я предал. Я бы заплакал, если бы никто меня не увидал. Как я ненавидел в этот час проклятого завуча. Следил бы сам, если ему нужно. Так нет, надо меня втравить. Ну как я теперь погляжу в глаза Женьке? А его нет, уже полчаса нет. Что с ним? Ругают, наверно. Может, хотят исключить из школы?
Но вот наконец-то он вышел из учительской.
— Ну, что? — кинулся я к нему.
— Да ничего, кто-то наябедничал, что я курю, и не говорят кто. А я все равно узнаю. Велят тетке прийти.
Я, наверно, покраснел, когда он сказал, что кто-то наябедничал, потому что внимательно посмотрел на меня, но промолчал, только поддернул штаны и пошел вперед.
— Ну, куда пойдем сегодня? — сказал он, когда мы вышли на улицу. — Погода хорошая, — он посмотрел на небо. Оно было голубое, солнечное. — Пойдем на окраину. Ты еще не был там?
— Нет, — радуясь тому, что разговор отошел в сторону от неприятного, ответил я.
С главной улицы мы свернули на узкую улочку.
Одноэтажные деревянные дома, похожие друг на друга, откинув в обе стороны ставни, удивленно поглядывали на нас маленькими окнами. Женька успевал увидеть все: и как тетка вешает белье, и как свинья нежится в грязной луже, и как кошка крадется к воробью, и голубей, прилетевших к курам на пшенную кашу.
— А что тебе сказал директор? — спросил я. Спросил потому, что меня все время угнетало неведение и вина перед Женькой.
— Ну я сказал — велят тетке прийти. И еще — исключат из школы, если буду курить. А что тетка, если мне не бросить. Я с пяти лет курю. Как попал к цыганам.
— А может, все же бросишь? — сказал я. Как мне хотелось признаться ему в том, что я совершил. Как мне сразу стало бы легко. Я бы упросил его не сердиться, потому что я ведь не хотел, но уж так вышло. Так получилось. Но не осмеливался, боялся, что Женька перестанет дружить со мной. А я его любил. Он был самый лучший мой друг. Такого во всем нашем городе не было.
— Бросил бы, да тянет.
— Как тянет?
— Покури, узнаешь.
Мы ушли далеко по улочке, и теперь уже была только дорога, да по сторонам от нее то тут, то там приземистые домишки, огороженные палисадами из частокола или старых досок. Уже в самом конце, перед полем, у самого крайнего дома на нас выскочила большая дворняга с грязной, свалявшейся шерстью. Она встала перед нами, вздыбила шерсть и, уперев в землю передние лапы, оскалила желтые клыки. Я обмер, но тут же вспомнил, как меня когда-то учил не бояться собак тот же Женька. «Сожми что есть силы кулаки, — говорил он, — и иди, не оборачивайся. Только не беги. Уходи, и все, и любая собака тебя не тронет и никогда не укусит». Так я и сделал. Шел, не оборачиваясь, сжимая что есть силы кулаки, так что даже ногти врезались в ладони.
— Ну чего ты, чего? — услышал я голос Женьки. — Иди ко мне, иди!
Я осторожно обернулся и увидал, как пес миролюбиво тычется носом в Женькину ладонь. Шерсть на его взгорбке улеглась, он мягко пошевеливал хвостом.
— Как тебя зовут? Как? Кудлай? Ах вот как! Кудлай. Кудлай, хорошая собака...
— Ты его знаешь? — спросил я.
— Меня все собаки знают, — гладя Кудлая, ответил Женька.
Из хибары вышла цыганка в цветастом накинутом на плечи широком платке, в высоких со шнуровкой сапожках, в длинной до земли юбке. Женька поздоровался с ней и стал что-то говорить на непонятном мне языке. Цыганка слушала его и хмуро глядела на меня. Когда он кончил говорить, кивнула головой и подошла ко мне.
— Красивый, — сказала она, — давай погадаю.
— А чего мне гадать, — смутился я. — Не надо.
— Погадай мне, — тут же сказал Женька и протянул руку.
— Позолоти ручку, — сказала цыганка.
Женька достал несколько медных монет и положил на ладонь цыганке. Она убрала деньги в карман своей пышной юбки и тут же достала карты, раскинула их на своем подоле.
— А неприятности были у тебя, золотой мой. И все из-за человека, с которым ты все делишь — и счастье, и радость. Из-за друга твоего...
Боже мой, это она про меня говорила!
— Какой же он из себя? — донесся до меня Женькин голос.
— Видишь, кре́сти кругом, — значит, брюнет. Да ведь ты и сам, хороший мой, должен знать своего друга. Или тебе показать его?
— Покажи.
— Так вот он, вот твой друг-то, — цыганка показала на меня пальцем, собрала карты и ушла в дом.
— Значит, это ты наябедничал? — не сразу сказал Женька. — Во как покраснел-то! И не смотришь даже...
— Я не хотел... — С каким трудом я поглядел на него!
— Я ж говорил, что узнаю, кто наябедничал, — невесело усмехнулся Женька. — Только от тебя-то я уж не ожидал.
— Понимаешь, я не мог врать. Ведь я же видел, как ты курил... ведь я пионер, я не мог врать...
— Отвяжись, — беззлобно, но с таким презрением сказал Женька, что у меня сами собой навернулись слезы. И пошел.
— Женя!
Но он только прибавил шагу. И я остался на месте. Стоял и смотрел, как он уходил все дальше, дальше, пока не скрылся. Не просто завернул за угол, а именно скрылся, исчез. И тут нестерпимая обида охватила меня, и я заплакал. Стоял и плакал, впервые сознательно понимая, что поступил нехорошо и что этому нехорошему нет оправдания.
1978
ФЛОКСЫ
В полдень на кухне появились цветы. Большой букет флоксов. Они стояли пышные, бархатисто-красные, иссиня-белые в этой полутемной, с длинным голым столом, с громадной плитой на двадцать газовых горелок коммунальной кухне. Появились в полдень, а через час из черного горла старого глиняного кувшина торчало всего несколько обтерханных веточек.
— Черта с два я вам еще хоть раз привезу цветы, — возмущенно говорила Настасья, сухая, крикливая женщина, зло глядя на старую Катю, добрую, тихую старуху. — И зря послушала Маньку. Свези да свези. Вот и свезла нелюдям! — Ее голос, резкий и злой, гулко отдавался в пустой кухне, где привыкли все убирать друг от друга, где не было даже шкафчиков для посуды, обычных настенных полок.
Тридцать семь комнат выходили в длинный, как пожарная кишка, коридор. В каждой комнате — семья. В каждой семье свои радости и беды. И часто случалось, что в одной комнате веселятся, а в другой плачут. В одной шум и гам, а в соседней жуткая тишина. Пять этажей было в этом старом доме, построенном когда-то заводовладельцем для своих рабочих. Он и сейчас стоит, этот дом, на Нарвском проспекте, сложенный из красного кирпича, с длинными коридорами, с общественными уборными для мужчин и женщин, с двумя кухнями на каждом этаже, с запахами горелого лука, жареной корюшки, прогорклого табачного дыма. Жили в нем труженики. Многодетные и бездетные, одиночки, вдовы с детьми. (Теперь в этом доме молодежное общежитие. Все семьи, жившие в нем, давно переселены в отдельные квартиры новых домов. А тогда...) В праздники после нескольких рюмок водки жильцы выходили в коридор и веселились сообща. В будни ссорились, мирились, откровенничали, чтобы потом же корить друг друга, одалживались до получки, помогали в несчастье, порой завидовали в радости. Возможно, они были бы лучше, если бы избавились от такой скученности. Но в то время это было невозможно, поэтому в характере жильцов такой комнатной системы были грубость, и недоброжелательство, и сварливость. Это относилось особенно к тем женщинам, которые не работали на производстве, а знали только один свой твердо определенный круг: продуктовую лавку, кухню, свое жилье и постоянную заботу о своих близких — как бы их повкуснее накормить, да так, чтобы это было недорого.