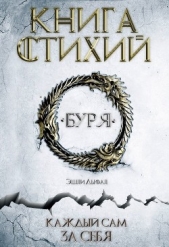Буря
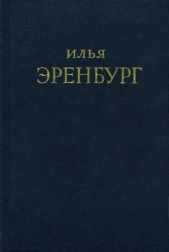
Буря читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
24
— Действительно, нервы? — спросил профессор Дюма доктора, когда они вышли из «Корбей».
— Грудная жаба. Первая повестка.
Они долго молчали, обоим было жалко госпожу Лансье, и оба были в том возрасте, когда смерть легка на помине. Да и сцена за ужином их расстроила, от Марселины они невольно перенеслись мыслями к Франции.
Трудно сказать, на чем покоилась дружба этих двух людей; они не походили друг на друга и не подходили друг другу. Дюма был крупным ученым, а доктор Морило заурядным районным врачом, который не гнался за медицинскими новинками, твердо знал, что его возможности ограниченны, и к науке относился, как к тяжелому ремеслу. Дюма можно было назвать жизнерадостным энтузиастом, Морило же над всем посмеивался, не верил ни в открытия, ни в реформы, говорил: «Чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему». И все же они нравились друг другу. Холостяк Дюма у доктора чувствовал себя, как дома. В свое время он каждое воскресенье возил на спине сыновей Морило — Пьера и Рене. Давно это было.
— От Рене вчера пришло длинное письмо, — сказал доктор. — Он на линии Мажино. Острит: «у нас здесь такое состояние, как будто мы воюем сто лет и жаждем мира — похмелье, а выпивки-то не было…» Говорят, что в апреле призовут Пьера. Если, конечно, эта музыка затянется…
Они снова шли и молча думали о том же.
Морило, наконец, заговорил:
— Ужасно глупо вышло… Но кто мог подумать?.. Я так и не понял, откуда они знают Руа. А если разобраться, то ничего нет удивительного — теперь если кого-нибудь назначают, значит, или круглый дурак, или настоящий подлец. Может быть, Марселина права — шпион… Как же вы хотите воевать при таких условиях?..
Дюма ни спорил, ни соглашался. Они медленно шли в темноте, ногами недоверчиво проверяя тротуары.
— Ничего, выкарабкаемся, — вдруг прорычал Дюма.
— Сомневаюсь. Франция, слов нет, хороший дом, но никто не хочет его защищать. Вероятно, потому, что никто не чувствует себя хозяином. Позавчера меня вызвали к больному: рабочий с завода Берти, гнойный плеврит. Там был его товарищ. Разговорились. Оба, разумеется, коммунисты или вроде. Вы представить не можете, как они раздражены, не верят ни слову, говорят — все это издевательство, чем кагуляры лучше наци, и так далее. Я с Берти давно не встречался, но убежден, что он предпочитает немцев вот таким соотечественникам. Страна расползлась по ниткам. В общем ничего тут нет удивительного — народы дряхлеют, как люди. Выскочат вперед американцы. Корнеля у них нет, только жевательная резинка, зато чертовски молоды. А мы свой век прожили. Так что хорошего ждать не приходится… Вы говорили, что мы не отдадим Праги, что договоримся с русскими, что Гитлер не посмеет начать… Интересно, когда вы расстанетесь с вашим оптимизмом — без пяти двенадцать или в пять минут первого?
Дюма так запыхтел трубкой, что искры посыпались в ночь.
— А зачем мне с ним расставаться? Язвы на поверхности. Что такое Руа? Я вас спрашиваю, что такое Нивель? Прыщи, и только! Разве народ может вдруг застрелиться? Что это вам, школьник? Или маклер? Народ — это хлеб, пот, гений. Я не знаю, что сделает народ, когда он, наконец, вмешается в эту пакость. Но не может, чорт побери, Франция кончиться на пьянчужке Даладье, на носатом прохвосте Бонне — извольте получить такое после Робеспьера и Сен-Жюста! Когда я вижу, как маляр красит стену, как сапожник набивает подметки, как монтер прокладывает провода, я сразу прихожу в чудесное настроение — есть еще Франция. Послушайте, доктор, может быть, мы не дотянем до рассвета, но нельзя поверить в такую окаянную ночь…
Кругом была воистину ночь, ни огонька, ни даже того ватного темно-серого тумана, который порой смягчает мрак; затемненные дома отсутствовали, город казался лесом. Вдруг из темноты донесся плач грудного ребенка. Доктор Морило развеселился:
— Смена, дорогой профессор, — антрополог двадцать первого века. Вы представляете себе, как он будет вам завидовать — вашей Мари с ее соусами, вашей трубке, вашему оптимизму. Я убежден, что через шестьдесят лет наше время будет казаться идиллией, буколикой, раем…
Дюма в ответ насмешливо засвистел.
— Эх, вы… Анатоль Франс!.. Не понимаю, как вы лечите больных, вы и здорового можете загнать в могилу такими тирадами… Когда идешь в гору, всегда кажется, что лучше бы не подыматься. До перевала… А идешь, значит, нужно дойти…
— И не шлепнуться. Осторожно, здесь, кажется, ступенька.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Валя была на четыре года старше Наташи, несмотря на это, девушки быстро подружились. Наташе нравилось, что Валя никогда не заостряла ни мысли, ни слов. Какая-то неуловимая, — думала про нее Наташа, — такие, наверно, все актрисы… Валя чувствовала себя в Москве одинокой, тосковала по друзьям из «Пиквикского клуба», ей становилось легче с веселой, разговорчивой Наташей.
Наташа праздновала день рождения — ей исполнилось двадцать лет. Отец подарил ей чудесные часики. Наташа то и дело подносила руку к уху и удивленно говорила «идут» — ей казалось, что на ее большой красной руке крохотные часики обязательно остановятся.
День был чудесный, начиналась весна, яркая, шумная. Вечером пришли гости: Валя Стешенко, Ольга, конечно Вася. Когда знакомые теперь считали, кого позвать, всегда говорили «Наташу с Васей» — нельзя было их представить врозь. Они часто встречались, не задумываясь, почему их тянет друг к другу. Обычно Наташа говорила, Вася молчал и улыбался. Как и в первый день знакомства, думая о Наташе, он говорил себе: хорошая девушка! Дмитрий Алексеевич как-то сказал дочери: «Твой Влахов мне нравится. Понятно?» Наташа без тени смущения ответила: «Понятно. Мне тоже…»
Наташа позвала и Сергея. Долго она раздумывала — не обидится ли Ольга, если ее позвать без мужа? Лабазов не нравился Дмитрию Алексеевичу. Да и Наташа не могла к нему привыкнуть: какой-то он неживой… Она не позвала Лабазова. Ольга обиделась, но обиду скрыла, только рассказала, что Семен Иванович написал хорошую статью о чутком подходе к человеку.
Молодежь веселилась, но, кажется, больше всех веселился Дмитрий Алексеевич. Он первым пошел танцовать, танцовал он вальс, и по старинке — подпрыгивая, но танцовал так, что Валя взмолилась: «Дмитрий Алексеевич, голова кружится…» Потом затеяли игры, загадывали слова, сочиняли чепуховые стихи и опять-таки Дмитрий Алексеевич забил всех. Ему выпал фант: гадать. Он повязал себе голову мохнатым полотенцем и отправился в комнату Наташи, разложил колоду карт, начал мучительно вспоминать: что выше — дама или король? Первой пришла Наташа. Отец крикнул:
— И ты сюда же? Киш! Сама все знаешь! Ты лучше его пришли…
Но когда пришел Вася, Дмитрий Алексеевич забыл про гадание — он взял с полки томик стихов, увлекся и стал кричать, потрясая книжкой:
— Удивительное дело! Набор слов, а, знаете, пот-ря-са-юще!
…Вот это — поэзия! Не то что Лабазов по телефону кричал: «Тридцать две строчки к Женскому дню!..»
Наташа спросила:
— Что тебе папа нагадал?
— Очень хорошо! И в точку, — ответил Вася.
Поглядев в спокойные глаза Ольги, Дмитрий Алексеевич засуетился:
— Сейчас, сейчас все вам расскажу. Матушка моя гадала — «чем успокоится сердце?» А оно обязательно успокоится! Я вам могу всю музыку продемонстрировать: хлопоты, потом черви — сами понимаете, какой предмет изображен, ну, а потом счастливая дорога, я уж не знаю, что вы предпочитаете — Анапу или Малаховку…
Сергею Крылов не стал гадать — надоело.
— Раскажите, как в Париже народ развлекается? Танцуют, наверно, так, что полы ломятся…
Он долго слушал рассказ Сергея. Потом вдруг помрачнел: