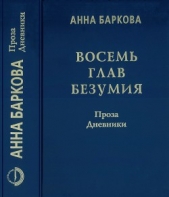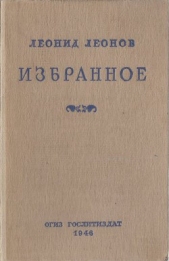Избранное. Из гулаговского архива

Избранное. Из гулаговского архива читать книгу онлайн
Жизнь и творчество А. А. Барковой (1901–1976) — одна из самых трагических страниц русской литературы XX века. Более двадцати лет писательница провела в советских концлагерях. Но именно там были созданы ее лучшие произведения. В книге публикуется значительная часть, литературного наследия Барковой, недавно обнаруженного в гулаговском архиве. В нее вошли помимо стихотворений неизвестные повести, рассказ, дневниковая проза. Это первое научное издание произведений писательницы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сижу у приятельницы. Сквозь неотвязные думы слышу:
— Никогда это не кончится. Никогда. Мы рабы. Мы устали. Мы потеряли способность к действию.
— Сильный человек нужен.
— «Самозванец» нужен, — усмехаюсь я про себя, явно в бреду, а вслух спрашиваю:
— А чего бы вы хотели? Вы все?
Несколько голосов разом ответило:
— Покоя. Чтобы нас никто не трогал. Чтобы можно было очухаться и подумать.
— Хочу жить. Читать то, что нравится. В театре видеть то, что меня интересует. Не оглядываться по сторонам даже в своей комнате, наедине с собой.
— Хочу обыкновенной человеческой жизни, как всюду люди живут.
И последний стон-резюме:
— А главное, по-ко-я!
Я неожиданно произнесла:
— Ну, это вы, наверное, скоро получите.
Все смеются.
— К сожалению, ваши слова — только шуточка.
— Как знать? Может быть, и не шуточка. Я ведь немножко поэт, а значит, и немножко пророк.
Рассеянно прощаюсь и ухожу, а люди продолжают тянуть бесплодный вопль о недостижимом мещанском счастье. На улице я вдруг остановилась и громко спросила сама себя:
— А я чего хочу? Чтобы все полетело к черту. Чтобы последний взрыв разрушил до основания и планету, и меня, и все ученья, все веры, все надежды. С 1914 года земля накренилась, сместилась ее орбита, и с тех пор все безудержно летит в пустоту. Во что верить? Что любить? Мне мучительно стыдно за людей, исповедующих передо мной какие-то убеждения. Они лгут для спасения своей шкуры или для спасения своей души. В сущности, это одно и то же. Ни во что они не верят, а убеждены только в одном, что нужно как-то жить, то есть работать, чтобы есть, предаваться половой любви, потому что без этого очень трудно обходиться… Между прочим рождаются дети. Самое страшное преступление в наше время — это рождение ребенка. Разве можно верить во что-то, надеяться на что-то в нашу эпоху, самую циничную, беспощадную, всеразоблачающую из всех эпох мировой истории? Хвататься за грязные лохмотья так быстро обветшавших учений и обетований — противно и стыдно. Так что же? Завернуться в тогу и умереть? В тогу? В затасканный, засаленный арестантский бушлат надо завернуться и по-арестантски загнуться. Мы не умираем, а загибаемся. Что-то будет завтра? И я сразу встрепенулась. Мимо проходили два человека и таинственно вполголоса переговаривались:
— Вы слышали?
— Да.
— Я тоже.
— Неужели это верно?
Увидев меня, оба замолчали.
О чем они? О завтрашнем дне или о том, что у них в учреждении со скандалом снимают начальника, о чем их по секрету уведомили? А может быть, и впрямь о завтрашнем дне? Никаких тайн в мире, среди людей, нет. Тайна старается выбраться наружу, она стала бесстыдной.
Под вечер, в каких-то бредовых раздумьях неизвестно, как и зачем, я попала на окраину города… Домишки… Окна открыты. Из одного окна слышен хриплый, омерзительно самодовольный голос; по интонации и манере произнесения чувствуется, что он принадлежит простой бабе, но большой стерве:
— Тридцать девять лет проработала без всяких замечаний и неприятностей…
И вдруг кто-то в комнате раздраженно, насмешливо, почти злобно перебил самодовольную радиоисповедь:
— Кто ей, суке, поверит, что она тридцать девять лет в Советском Союзе без неприятностей и без замечаний проработала! Тут за год тысячу неприятностей и выговоров получишь.
Голос бой-бабы продолжал тараторить по радио:
— Все только и думала о пассажирах и об их удобствах…
— Ах, шлюха! И ведь старая шлюха, а врет, словно подыхать не собирается.
Второй живой голос, старушечий:
— А я все заграницу слушаю. А этому я ничему не верю.
Озлобленный голос недоверчиво:
— А как же ты слушаешь? Ведь наши заглушают.
— Кажный вечер ловлю и слушаю.
— Не может быть, такой гул, такой грохот, ровно из «Катюши» стреляют. Ничего не поймешь.
— А я и не понимаю. Я не по-русски слушаю, а по-ихнему.
— А зачем тебе слушать, если не понимаешь? Ты ихнего языка не знаешь ведь?
— Не знаю, — безмятежно подтвердил старушечий голос. — А вот слушаю и чувствую, что люди дело говорят, и мне приятно. А иногда попоют по-своему, и это слушаю. А наши ежели говорят, я ничему не верю. Все врут.
Я отбежала от окна, чтобы вволю нахохотаться.
Читатель, это не шарж, не клевета, не гротеск, а просто маленькая репортерская заметочка о глупой случайности, каких у нас очень мало.
О настроении заводских рабочих в тот день сказать ничего не могу. Вероятно, работали, выполняли и перевыполняли задание, про себя посылая его туда, куда может послать только русский человек. Потом шли домой, обедали, пили водку, ссорились с женой, а помирившись, всей семьей отправлялись в кино.
Смею вам сказать, что трудового энтузиазма не хватит на то, чтобы в течение тридцати — тридцати пяти лет давать полуторную, двойную и даже тройную норму выработки. А иные, если верить газетам, доходили до пятисот процентов. Это сверхфизиологично, сверхчеловечно, это — ложь. Сверхчеловечности хватит, ну допустим, на три-четыре года. А после этого наступает обыкновенная человеческая усталость, полная изношенность и — смерть.
Да, усталость, изношенность и смерть, несмотря на все механизации, автоматизации и рационализации. Нередко так оно и было. Чаще случалось другое. А именно: выяснялось, что в продолжение ряда лет «показатели завышали», и никто этого своевременно обнаружить не мог. И вдруг в один прекрасный день высший партийный руководящий орган замечал… Далее следовали выклики по поводу всеведения, принципиальности, мудрости этого высшего органа. Хотя — черт возьми! — какая тут мудрость и принципиальность: быть водимым за нос долгие годы, не чувствовать этого и наконец в какой-то чересчур уж критический момент выявить этот прискорбный факт.
Но кто бы посмел намекнуть на это обстоятельство? Про себя-то все отлично знали о нем.
— Одну породу на гора даем, — уверял меня шахтер одной из великих кочегарок, — то ли угля мало, то ли не дошли еще до него… Достаем породу, а нам записывают уголь, да еще и приписывают. А иначе жить и работать нельзя. Мы получаем тысячи, начальника премируют десятками тысяч — и все в порядке. Когда-нибудь поймают, да хай им черт, пока живем!
Кризисы… Экономические катастрофы… Это все происходит где-то далеко, в буржуазном мире. И там капиталисты и банкиры во время экономических катастроф стреляются, а безработные устраивают шествия по всей стране, вплоть до парламента. А мы не стреляемся, мы — хай им черт! — живем. Живем посреди этой самой катастрофы, как посреди привычного домашнего хлама.
А все-таки, что произойдет завтра? «Что ждет нас, гибель иль успех?» В нашей сказочной стране и то, и другое возможно. Заранее ничего нельзя предвидеть. Все решает бестолковая истинно русская случайность. Дело-то на песце построено, а потому удача возможна. У нас всякая крепкая реальность, каждое прочное здание на песце строятся и — ничего — держатся. А построишь не на песце, так, пожалуй, и рухнет. Завтра посмотрим, к кому этот песчаный грунт окажется благосклонным.
По улице шел пьяный и мычал. На груди у него красовалась колодка орденов. Герой. Он покачивался и мычал. Увидел меня, остановился. Мне стало не по себе. Вечер, окраина города, когда и в городе на улицах, близких к центру, в 11–12 часов ночи нельзя пройти без опасения. Любой хулиган может очень крепко ударить, не будем упоминать о таком пустяке, как оскорбление словом. К этому мы привыкли. Чуть ли не со смехом рассказываем приятелям: «А он меня сволочью назвал (или проституткой), но ничего, не ударил. А у меня сердце в пятки упало, ну, думаю, в котлету превратит. А он так раза два повторил: „Сволочь! Паразит!“ И побежал себе. Я дух перевел: черт с ним! — думаю. — По милициям да по судам таскаться толку мало, да и времени не хватит, да еще как суд решит. А он, хулиган-то, может быть, отличник производства. Еще клевету припишут. Свидетелей нет. Попробуй, докажи». Тут начинают сыпаться бесконечные рассказы о самых затейливых и оригинальных случаях хулиганств, избиений, грабежей и убийств.