Арктический роман
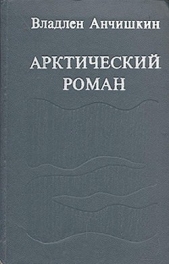
Арктический роман читать книгу онлайн
В «Арктическом романе» действуют наши современники, люди редкой и мужественной профессии — полярные шахтеры. Как и всех советских людей, их волнуют вопросы, от правильного решения которых зависит нравственное здоровье нашего общества. Как жить? Во имя чего? Для чего? Можно ли поступаться нравственными идеалами даже во имя большой цели и не причинят ли такие уступки непоправимый ущерб человеку и обществу?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я сбежал с Камня и погнался. Я видел, что сука не может уйти далеко, а желто-бурого я теперь убью непременно.
Собаки прятались в складках, опытом или чутьем угадывая их. Но путь у них был один: вверх, по все сужающемуся ущелью с отвесными скалами, на перевал, в горы… Я настигал собак. Когда между нами оставалось шагов пятьдесят, желто-бурый исчез. Сука шла все медленнее. Я остановился, собираясь стрелять, но был начеку. И не ошибся. Позади снова послышалось угрожающее, утробное рычание. Я взревел, теперь от злости. Пес метнулся на меня, я, не целясь, выстрелил из обоих стволов. Желто-бурое привидение успело прыгнуть в сторону; следующий прыжок был не ко мне, а за холм.
Он вновь появился на осыпи, в стороне Груманта. Я перезарядил ружье. Пес стоял на осыпи, ждал нападения; из левого, прикрытого глаза сочились красные слезы…
Я понял: желто-бурый кобель и не собирался набрасываться, — он отвлекал меня от раненой подруги… Я взял ружье на ремень и пошел, шатаясь, вниз по ущелью, к поселку.
Когда я подошел к осыпи, на которой только что стоял желто-бурый, его уже не было. Не видел я его больше; не видел подруги. Мне не хотелось оглядываться — искать их; я почувствовал стыд и угрызение совести. Я встретил дружную семью готовых на жертву друг за друга собак, преследуемых всеми и одиноких на этой пустынной земле, и, возможно, разрушил последнюю дикую собачью семью на острове Шпицберген.
На Большом камне я сел отдохнуть: усталость и нервная встряска сморили, — хотелось спать. Ко мне пришло полузабытье, и я не знаю, как долго пробыл в таком состоянии. Очнулся от глухих в ущелье выхлопов дизельной электростанции, доносившихся из поселка. О подъеме в скалы Чертовой тропы в этот день не могло быть и речи. Я сидел на Камне и поглядывал вокруг — на осыпи, на скалы.
Стайка куропаток слетела с гор и села на пеструю лужайку мха, за ручьем. Птицы передвигались, вытянув шейки, осторожно оглядывались.
Это была одна семья: петушок с красными гребешком и сережками, курочка и шесть уже ставших на крыло «младенцев». Стрелять по куропаткам можно было с места, где я сидел. Но мне не хотелось стрелять, хотя я не успел убить ни одной на острове. Тошно почему-то было мне.
Только бы избавиться от соблазна, я бросил в птиц камнем. Быстро перебирая пушистыми, совьими лапками, они побежали. Я опустился с Камня, пошел к ним. Куропатки убегали. Лишь когда я покричал и помахал ружьем, они снялись.
Мешочек я заметил сразу. Он был привязан к шесту: шест у основания привален булыжником; верхний конец входил в расщелину в Камне. Шест был закреплен надежно, так, что лишь человек мог сдвинуть его; лишь человек или белый медведь могли достать до мешочка. Он был виден с одного места: от глыб песчаника, возле которых стояли собаки. Мешочек висел как бы в гроте, вырытом ручьем в Камне. Я подпрыгнул: мешочек висел на веревочке, оборвался и упал. В нем лежали остатки еды из рудничной столовой. На мешочке было написано хими ческим карандашом: «Не трогать! Цезарю!» Надпись я заметил, когда мешочек упал.
Живет и сейчас на Груманте главный механик рудника Юрий Иванович Корнилов. Негласно он считается старшиной у охотников. Корнилов приехал второй раз на остров; первый раз он был на Груманте до войны. Романов рассказывал о нем. За Корниловым водятся грешки: он пьет в одиночестве, на людях спиртного не берет в рот. «Пьет под одеялом, — как говорил Александр Васильевич, — песни поет под подушкой, а на второй день обязательно бежит в баню и бреется». Никто никогда не видел главного механика под хмельком.
Корнилов не вошел, а ввалился к нам в комнату. С виду он человек угрюмый, неприветливый, выше меня ростом, плотный такой, круглый: лицо, нос, руки — и те круглые. Лишь глаза щелочками. С Корниловым можно разговаривать только о деле, кратко, — бирюк с первого взгляда, злой человек.
Мы с Лешкой сидели посередине комнаты, за столиком. Я чистил ружье, рассказывал о встрече с собаками… Корнилов вошел без стука; не спросив разрешения, молча сел. Он смотрел на нас, как на выродков; потом сердито спросил, кивнув на ружье:
— На охоте был?
Я ответил. Он не спрашивал, а допрашивал:
— К Чертовой тропе ходил?
Я не знал, как вести себя: все было так необычно… с таким бесцеремонным напором… Я опешил, отвечал против воли. В голове вертелась лишь одна мысль: неужели вести себя прилично — значит терпеть наглецов, претендующих на оригинальность с помощью хамства?
— Собак встречал, да? — продолжал Корнилов, наливаясь кровью. — Бурых таких… здоровых?.. И стрелял в них, так?.. Дикие потому что, правильно?.. С десяти шагов стрелял?..
Лешка встал из-за стола; в отличие от Корнилова он бледнел.
— Выйдите из комнаты, — потребовал Лешка. — А потом войдете так, как входят воспитанные люди… Вас учил кто-нибудь вежливости?
— И ранил одну, да? — продолжал Корнилов все тем же — злым и ненавидящим голосом.
— Слышите, что я вам говорю?! — крикнул Лешка. И на этот раз Корнилов не услышал; смотрел на меня оскорбляюще, зло, говорил, не повышая голоса, но чувствовалось — может ударить.
— Сс-терь-рь-рьва, — сказал он, поднимаясь. — Не успел приехать, уже напакостил.
Он не стукнул кулаком по столу, не ударил меня, не повысил даже голоса. Он, оказалось, может причинить боль глазами большую, нежели кулаком. Измерял меня взглядом — и так презрительно, гадливо, что я почувствовал слабость… и запомнил этот взгляд. Я и сейчас помню…
Корнилов повернулся тяжело и вышел неуклюже как-то. И опять: на Лешку не взглянул и дверь не закрыл за собой. Ушел. А его взгляд продолжал жить в комнате.
Лишь после того как Лешка захлопнул дверь, я пришел в себя. У меня было желание догнать этот мешок с костями и рыхлым мясом, подраться с ним. Но Корнилов был старше. И еще что-то было в его поведении, во мне — во всем, что произошло в этот день; что-то такое, что удерживало на месте, заставляло чувствовать себя сопляком перед этим пожилым человеком, принуждало ненавидеть себя за то чувство, которое побудило меня стрелять в дикарей. Ведь из честолюбия я стрелял: захотелось охотничьей славы, признания. С этого ведь началось — с честолюбия. А Корнилов вел себя искренне; нагло, но искрение. Как я потом понял, именно это и удержало меня.
Смертельно раненную подругу Цезарь (так звали желто-бурого) вел к финским домикам геологоразведчиков на Зеленой — к людям. Собака не дотянула до поселка: легла на землю в полукилометре от домиков. Цезарь выл возле нее. На его вышли геологи. Цезарь убежал в горы.
Собака издохла возле людей.
Мешочек на шесте у Большого камня регулярно наполнял остатками от обедов Корнилов и вешал его на такой высоте, чтоб до него не дотянулись рудничные дворняжки, — до мешочка мог подпрыгнуть лишь Цезарь. Это был действительно дикий пес. Он один уже несколько месяцев спускался вниз по ущелью. В тот раз, когда я встретил его, Цезарь, возможно впервые, пришел к Большому камню с подругой.
Не знаю… возможно, оно есть и у других, но во мне, оказалось, есть это свойство: если человек нанес тебе оскорбление, а ты еще не понял, но чувствуешь, что оно справедливо, тебя тянет к этому человеку; он вновь оскорбляет, а ты лишь тупеешь и уже вконец не можешь отступиться от своего оскорбителя. Отчего оно появляется, это свойство, живет в человеке, не знаю, но оно есть, и в нем что-то оскорбительное.
Тупое упрямство овладело мной: для меня сделалось потребностью добиться, расположения Корнилова, — без этого, казалось, я не смогу жить. Ведь Корнилов никому не сказал, что я стрелял в Цезаря, — оставил на моей совести. А Лешка успел взять с меня слово молчать и сам дал слово не говорить никому: мне, попросту говоря, могли морду набить за то, что я сделал, — о псе знали все охотники рудника — он был не просто дикий, а одичавший; Корнилов пытался вернуть его к людям…
Однажды я увидел Корнилова на квадратной площадке между механическими мастерскими и одноэтажным домиком; с площадки спускалась по крутому склону лестница, упирающаяся в причал для катеров и барж. Корнилов стоял один, опершись локтями на деревянные, некрашеные перильца, смотрел на фиорд, на ледники и скалы за ним.

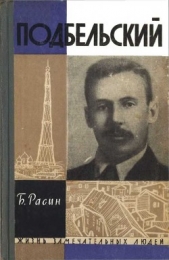
![Зов Орианы. Книга вторая. Арктический десант. [СИ]](/uploads/posts/books/106378/106378.jpg)























