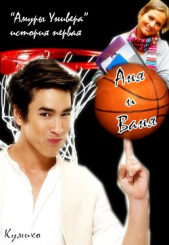Арифметика любви

Арифметика любви читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно. Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И восприимчивость у Катерины совсем другая: скорая и какая-то ужасно естественная. Марина стоит, глядит и не угадает, что ей понравится, куда она шагнет: может, и никуда, чего там! Перед Катериной — будто узенькая, но прямая, протоптанная дорожка — вверх; и сама Катерина — легконогая, как не идти?
Быстро и ловко управившись после обеда в кухне, Катерина, в бальном платье, в золотых туфельках, отправляется танцовать в казино, в клуб, если это летом… а придется — так и на сельскую, «toire» [3], с тем же удовольствием. В Париже, зимой, опять либо дансинг (но не какой-нибудь, и одна не пойдет, а с подружками и знакомыми), либо, конечно, синема.
В кротовой шубке, в модной шляпке, скромную, живую и хорошенькую, — кто отличит ее от «настоящей» барышни-парижанки?
Да и незачем отличать, так неуловим переход от Катерины к «настоящей» барышне, которую, кстати, и определить трудно, какая она.
И где начинается? Дактило, продавщица, служащая в банке, что это, «настоящие» барышни? Таких подружек много у Катерины. Если же за «настоящую» взять ту, у которой шубка подороже, платье поизящнее, то, право, внутреннего отличия, существенного, мы от Катерины в этой средней настоящей барышне не найдем. Получше пишет, потолковее книжки читает, может быть, да манеры получше — вот и все. Но в те же синема она ходит, те же танцы танцует, такую же завивку делает у парикмахера и так же мечтает о том, чего еще не имеет. И хорошо, если желания ее и мечты добротны, подобно Катерининым, если она хочет быть хорошей женой и матерью и не боится труда…
Здешняя средняя «настоящая» барышня стоит на той же дорожке, или лесенке, — вверх; если Катерина на ступеньке пониже, то ступеньки мелкие, полузаметные; по ним не тяжело и подыматься, иди себе да иди, сколько тебя хватит… А дальше — дети твои пойдут.
Но я отвлекаюсь. Вернемся к счастливой Катерине, влюбленной в своего «солдата», как была Марина влюблена в своего. Катеринин отбывает военный год (только год!) вдали от Парижа. До службы он был главным приказчиком в одном из громадных магазинов «Potin». Тут, за провизией, они с Катериной и познакомились.
Он не парижанин, он северный француз, из-под Руана. Там у него свои родители, тоже «семья» (это особенно звучит по здешнему месту, не надо забывать!). Обе семьи, и жениха, и невесты, уже находятся в контакте, несмотря на расстояние. Старики и там и здесь начали с работы «на земле». Если южане, между прочим, занимались виноградниками, то северяне — яблоками (сидр). Но скоро старики будут жить на покое: подросли дети, станут работать они… а как — им виднее, лишь бы работали.
Солдат Морис — меньше всего похож на Марининого Николая. Смышленый, проворный, веселый, любит читать, интересуется газетами. Через полгода службы он уже «капрал». Он серьезно уважает «семью», искренно влюблен. Невесте, в продолжение долгих месяцев он пишет каждый день.
К службе относится ответственно, как к devoir [4], но высчитывает, сколько еще осталось до окончания, до счастья со своей «poulett» [5]. Он пишет совсем недурно, с немного однообразным излиянием чувств, но приятно и рассудительно. Катерина тоже, из месяца в месяц, каждый день пишет ему длинные письма. Помощь барыни (a patronne) — ей, как бедной Марине, совсем не нужна… И, однако, разговор о Морисе у Катерины с «Madame» не иссякает, и ежедневно приносится для прочтения очередное письмо солдата.
— Знаете? — сказала мне эта, когда-то молодая, хозяйка Марины и Катерины. — Не могу отделаться от впечатления, что Марина была… как-то целомудреннее в своей любви. Фактически-то наоборот: здесь все «по-хорошему», и родители, и «respect» [6], а Марина едва до первых родов обвенчаться успела. Да вот Марина по нужде, по неграмотности, признавалась, что влюблена, и в подробности не входила… А эта все бумажные жениховские поцелуи несет ко мне, и при мне же спорят они, кто кого сначала хочет, мальчика или девочку… Не понимаю; латинской души, должно быть, не понимаю. При этом ведь глубоко уважаю эту ихнюю святыню, — «famille» [7], а назад, к Марине обертываясь, напротив, — ужасаюсь…
Ну, насчет «целомудрия»… моя приятельница забыла, упустила из виду, что для Марины «барыня» — другое, чем «Madame» для Катерины. Для Марины «господа» были каким-то сортом людей, или породой людей, совершенно ей чуждых, непонятных и неинтересных. У нее и у них — разные дела, без всякого касательства. Точно бездонный провал разделял Марин, Николаев, — и «господ». У Марины была своего рода гордость по отношению к этому далекому сорту людей, иногда снисхожденье. Главное же — непереступность разделяющей пропасти (и никакого желания и нужды ее переступать). Все это, конечно, бессознательно: но в ощущении — так.
Для Катерины — нет ни провалов, ни особых сортов; она не ощущает никакой серьезной разницы (коренного порядка), между «патронами», платящими деньги за известную работу, и получающими за работу. Это отношения деловые, а хорошо ли складываются — зависит от того, каков патрон, каков служащий. Катерина отлично знает, что и сама, в дальнейшем, может сделаться «патроншей» в каком-нибудь роде, — «хозяйкой» служащих. О, конечно, понимает она и другие особенности «Madame et monsieur» [8]: они могут знать больше, чем она, учились дольше (долго ли она ходила «en classe» [9]), наконец — они могут быть «les nobles» [10]; это все она уважает в свою меру, если с этим встречается. Однако основной элемент человеческого «равенства» никогда не бывает уничтожен: он не в разуме, а, кажется, издавна, уж в крови.
Поэтому фамильярность такой Катерины (если удачная хозяйка) ничего общего не имеет с Марининой фамильярностью, вынужденной и, по простоте, неумелой. Марина полагает, что ее живые интересы «не имеют касательства» с непонятными и ненужными ей интересами «господ». А Катерине и вопроса такого на ум никогда не взбредало.
Отсюда, я думаю, идет и своеобразное «целомудрие» Марины, или то, что приятельница моя назвала целомудрием.
А вот, что Марина умнее Катерины — правда. Но «умнее» опять в нашем, русском, смысле, не в здравом жизненном (тут Катерина перед ней орел), а в отвлеченном. У Марины являлись какие-то тени «вопросов» общего порядка, совершенно для нее бесполезных. Марина не задумывалась, не знала, — что она знала? — к далеким «господам» никогда со своими сомнениями не лезла; просто рассуждала сама с собой, вслух, когда кто-нибудь, из своего брата, был тут же.
Так, раз, заглушая стук котлетного ножа по столу, говорила она громко зашедшей соседней кухарке:
— А что, Домнушка… У церкву я хожу… Богу я мо-олюсь… А есятко Бог по-настояшшему — я не знаю…
— Шш-то ты! Шшто ты! — зашипела на нее испуганная Домна. Но не слушая, отбивая дробь ножом, Марина без смущения продолжала:
— По-настояшшему-то есятко Он — знать, я не знаю. А у церкву хожу. И молюся. Ну, а знать по-настояшшему…
Невообразимо, чтобы Катерине или ее Морису (а он очень неглуп) довелось сказать что-либо подобное, или хоть подумать. Может быть, они атеисты? Или равнодушные? Как бы не так! Они оба из семей, где религия в великом почитании. Оба учили катехизис перед первым причастием, и с тех пор не только не забывают храма и месс, но Катерина ходит в Sacre Coeur, заботливо украшает цветами изображение маленькой Терезы (общей здесь любимицы), а Морис шлет невесте разные «Neuvaines» [11]и постоянно пишет, что опять, в это воскресенье, он горячо молился о даровании им счастья.
Тут, однако, и я, подобно моей приятельнице, глубоко уважаю это все в Катерине и Морисе, утверждаю, радуюсь, глядя на них… обернувшись же вдаль, на бедную Марину, на ее пьяного солдата — Николая — ужасаюсь… Но каким-то образом, каким-то кусочком сердца, Марину понимаю больше…
Впрочем, я не хочу думать об этом. Ужас и боль за таких Марин и Николаев (ведь родных!) заслоняют все. Перед ними не было утоптанной, изведанной дорожки; оттуда, где они были, не вела вверх легкая лесенка. Ее надо было еще строить. Кто знает, не начиналась ли стройка, когда сверху, через провал, обрушились в темную глубь Марины и Николая и те, которые были наверху…? Но не будем касаться последних времен. Для них еще нет у нас слов, не готовы. О сегодняшнем «там» — молчанье.