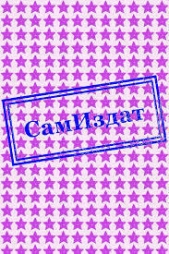Жестокий спрос

Жестокий спрос читать книгу онлайн
Повести и рассказы Михаила Щукина посвящены современному сибирскому селу, острым нравственным проблемам, которые неизбежно встают перед людьми, живущими в полную силу души .
В повести, давшей название сборнику, — противостояние двух героев, двух жизненных позиций: человеколюбия и крайнего эгоцентризма. Перед читателем — сельские труженики, два бывших друга, по-разному, прошедших через главное жизненное испытание: один мужественно прошагал дорогами войны, а другой сумел ловко отсидеться в глуши, устраивая свои личные дела… Суровый, пристрастный суд собственной совести — вот тот закон, по которому живут герои М. Щукина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты что, сват, что так на меня уставился?
Еще раз сдержал себя Григорий Фомич.
— Так просто, смотрю вот.
Но он смотрел не только на свата Корнешова, он смотрел в далекое теперь прошлое, когда все еще только начиналось.
Зима давно переломилась на вторую половину. Близился март, и ночи стояли тихие, спокойные, с добрым, ровным морозом. Сегодняшняя тоже была такая. Гришка Невзоров и Семка Корнешов шли по ночному переулку, а следом за ними, не отставая, скользили длинные, вытянутые тени. Парням надо бы спать в это время — завтра опять спозаранку на работу. Но попробуй улечься, когда тебе стукнуло восемнадцать, а в бараке, у присланных из города на лесозаготовки девчат, танцы — не такая уж частая роскошь во вторую военную зиму. Поплясали, частушки попели, Гришка ушел провожать свою кралю, Зинку Побережную, а Семка куда-то исчез с веселой городской толстухой. И вот во второй половине ночи, возвращаясь по домам, а жили они рядом, друзья встретились на углу переулка, облитого ярким, лунным светом.
Семка поддел подшитым валенком мерзлую коровью глызу, расхохотался, окликнул Григория:
— Ну, кавалер, пощупал свою Зинку? Она у тебя мягкая…
— Ладно ты, не мели. Не твое дело.
— Да жалко ведь, добро пропадает. А ты ходишь да сопишь в тряпочку. Эх, мне бы ее, как ту толстуху, на сеновал затащить!
— Ладно, хватит молоть.
— Дурак ты, Гриня, пень осиновый.
— Полайся еще у меня.
Были они одногодками, но Семка успел узнать многое такое, о чем Григорий, даже наедине с собой, и думать стеснялся. Но зато он был жилистей, сильней, и Семка, подразнив его, последнего шага не делал. Свистнул, поддел валенком еще одну глызу и перевел разговор на другое.
— Слышал, Ваньке Петрухину повестку из военкомата притащили. Последний нонешний денечек… Скоро и нас с тобой.
— Скорей бы уж Надоело тут с бабами в лесу маяться.
— Не торопись, там, думаешь, для тебя калачей настряпали? Мои братаны тоже, уходили, куда там! На обоих похоронки притащили. А Саня вон Егоров вернулся, видел? Половина от Сани осталась, обрубили, как чурку. Нет, по мне, так я бы и с бабами повоевал.
Гришка сбился с шага и даже остановился.
— Ты чего это, трусишь?
— Да так, шучу. Не выбуривай на меня. Вместе потопаем. Покедова.
Но топать им довелось в разные стороны.
Через два дня Гришке принесли повестку. Отец с матерью зарезали овечку и устроили скорые проводы — времени до отправки в район оставалось всего ничего. Ошарашенный хмелем, облитый материными и Зинкиными слезами, Гришка уехал на подводе со стариком-возницей в военкомат. А когда прошла растерянность, когда остались позади проводы и слезы, когда просветлела от хмеля голова — он уже лежал на жесткой, истертой соломе теплушки. Поезд тащился среди белых, зимних полей, и каждый стук его колес все больше разъединял с Зинкой, с отцом и с матерью, с Семкой, с родной деревней.
А в деревне в эту ночь, на крыльце своего дома, закутавшись в тулуп, сидел старый Анисим Корнешов. Маялся он бессонницей, невеселые думки одолевали его крупную, рыжую голову. Второй военный год крепко пригнул Анисима: на большака Федора принесли похоронку, не успели оклематься, как такую же бумагу подали на среднего, Алексея. А со дня на день, понимал Анисим, заберут и младшего, Семена. Ни кривизны, ни хромины у парня нет. Заберут, как пить дать. Было от чего маяться бессонницей.
В избе загорелась лампа. Значит, жена встала. Поднялся и Анисим, пошел дать корове сена. Вернулся в избу, принес с собой запах сухой травы, навоза и молока.
Семка зевал, сидя на кровати, чесал пятерней рыжую голову. Белая нательная рубаха еще резче подчеркивала огнистый цвет волос. Анисим, собираясь на работу, нет-нет да и взглядывал на сына, примечая, как тот ловко вскочил с кровати, как сладко, с хрустом потянулся, как сноровисто, с молодым азартом хлебал похлебку. В таком возрасте, вспоминал себя молодым Анисим, первое дело — поесть да поспать. Еще тяжелее становилось думать о том, что скоро и младшего придется отправлять. Кряхтел, дымил самокруткой, вздыхал.
— Давай, Семка, быстрей, некогда рассиживаться. Пошли.
Сказав последнее слово «пошли», Анисим, наконец, решил тот вопрос, над которым маялся в последние ночи. А решив, почувствовал облегчение.
По переулкам, купающимся в сизых, утренних потемках, по одному, по двое, группками тянулись люди к конторе лесоучастка. Дружный скрип мерзлого снега под валенками далеко разносился в холодном воздухе. Левее конторы стоял длинный, приземистый барак, где жили городские, присланные на лесозаготовки. Молодых девок ни снег по пояс на делянке, ни тяжелый топор, ни лучковая пила уторкать не могли. Вот и сейчас в настежь распахнутые двери вывалились с таким смехом и визгом, как будто, скажи, их кто щекотал. Семка напружинился, словно молодой конек, прислушался и прибавил шагу. Анисим заметил, догадался, что к девкам тянет сына. Дело понятное, молодое, сам в такие годы любил потискаться в темных закутках.
И снова, как всегда неожиданно, испугом, бедой дохнуло воспоминание: на среднего сына принесли похоронку, Анисим, не зная что делать, куда деваться, схватил топор и стал рубить старый комель, лежавший в ограде. Кромсал его, отмахивая большие щепки, вымещая на безответном дереве свою боль…
Анисим замедлил шаги, перевел дух, несколько раз глянул на Семку и решился.
— Это самое… Не слышал, в Егорьевском лесоучастке парню сосной ноги переломало.
— Ну, слышал, — нехотя отозвался Семка, поворачивая голову в сторону барака. — Всякое бывает.
— Радости мало, а все же дома останется. Так бы на фронт уперли.
Говорил Анисим медленно, с перерывами, словно стесывал каждое слово топором.
— На фронт теперь не заберут, живой будет.
Семка забыл про барак, подстроился под медленный шаг отца, опустив голову, пошел рядом. И вдруг резко ее поднял, глянул прямо, не смаргивая.
— Хорошо ему, батя, живому…
Лицо сына было совсем близко, глаза совсем рядом. И по лицу, и по глазам Анисим догадался — Семка его понял. Все понял. Не только понял, но и согласился. Дальше они шли молча, не глядя друг на друга.
В контору лесоучастка, где начальник распределял людей на работу, не заворачивали. У них дело известное — плотницкое. Рубили новую конюшню. Старая похильнулась, по утрам в углах белели сугробы. А лошади на лесозаготовках — первое дело. На себе бревна не потянешь. На новой конюшне оставалось только поднять стропила, забрать крышу тесом да навесить ворота. Работы дня на четыре, если подкинут, как обещал начальник, помощников. Помощники были уже на месте — два паренька.
Анисим дрожал, словно промерз на сильном морозе. Но когда взял топор, успокоился.
Пока обтесывали, примеривали стропила, совсем ободняло, выкатилось солнце. От конторы к конюшне шел начальник лесоучастка. Анисим заметил его, немного подождал и дал команду:
— Семка, придержи-ка лесину, тут еще чуток надо снять. Вот тут держи, крепче, крепче…
Растопырив пальцы, Семка обеими руками держал лесину. Анисим размахнулся, вонзил топор в дерево. Еще, еще раз, погнал толстую щепу, пока не отвалилась. Теперь надо подчистить. Шагнул вперед, глянул мельком, рассчитывая удар, и, чуть пустив вперед топорище, пропуская его меж неплотно сжатых ладоней, кинул вниз блеснувшее на солнце лезвие. Закрыл глаза.
Семка вскрикнул по-заячьи — тонко, визгливо. Анисим, не выпуская из рук топорище, открыл глаза. Мизинец, воткнувшись стоймя, краснел на снегу, чуть поодаль, один возле одного, лежали еще три пальца. Кровь из вытянутой руки хлестала упругими толчками, густо красила снег. Лицо у Семки дергалось и быстро, до белизны, бледнело. Вытаращенные от испуга и боли глаза никак не могли оторваться от пальцев, валявшихся на снегу.
— Уснул, что ли?! Мать твою… — заорал Анисим, разматывая на фуфайке опояску. — Руку держи, перетянуть, кровь не пойдет… Ах, мать твою… Да как так!