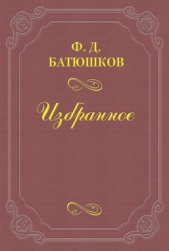Записки Анания Жмуркина
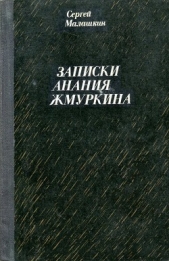
Записки Анания Жмуркина читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я купил в киоске «Русские ведомости» и прошел на перрон.
Раздался второй звонок, на перроне стало тише, провожающие уже не суетились, как в минуты посадки, остановились и зорко посматривали в окна вагонов. После третьего звонка вагон вздрогнул, дернулся, лязгнул буферами и зажурчал колесами по рельсам, и платформа с пестро одетыми людьми и вокзальными зданиями стала медленно, затем все быстрее и быстрее отплывать. Но вот она и совсем отстала и пропала в вечереющем иссиня-красноватом сумраке. «И день прошел», — подумал я и отвел взгляд от окна, привалился спиной к стене и стал разглядывать соседей по купе.
На одной лавочке, рядом со мною, сидел старичок с острой бородой; он медленно жевал баранку, и я слышал, как она хрустела у него на зубах. Напротив, на другой лавочке, сидели двое мужчин. Один высокий, с темной аккуратной бородкой, с большими серыми глазами. Этот человек показался мне знакомым. Он, заметив, что я смотрю на него, улыбнулся в бородку, сказал:
— Не узнаете, господин Жмуркин? А мы встречались, хотя не так часто. И каждый раз яростно спорили.
— Здравствуйте, Вячеслав Гаврилович, — кивнув головой, поприветствовал я Малаховского.
Другой человек, сидевший рядом с ним, был толстенький, в ластиковом картузе, в черном пиджаке, с короткими густыми светлыми усами. Он часто зевал и, зевая, крестил красные пухлые губы и что-то бормотал. Потом он, откинув голову назад, закрыл глаза и, задремывая, тоненько, как сверчок, засвиристел. Я не поддержал разговора с Малаховским только потому, что он начал читать газету, закрыв ею свое лицо. Я взял из грудного кармана письма, полученные мною перед отъездом. Надорвав конверт, вынул четвертушку бумаги, исписанную довольно крупным почерком.
«Пишу это именно Вам потому, что около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее. А. Чехов» («Письма»).
Прочитав эпиграф, я удивленно повел плечом и подумал: «Да мне ли сие послание? Уж не схватил ли я второпях и по ошибке письмо, присланное Власу?» Нет, на конверте мое имя, отчество и фамилия.
«Здравствуйте, мой друг! Мне именно хочется начать письмо словами Чехова, это так созвучно с нашими взаимоотношениями и с моим одиночеством. Милый друг! Я хочу Вас называть так потому, что Вы ведь в самом деле мой единственный друг в этом аду, именуемом миром, и Вам и только Вам смогу открыть и свободно сказать о моей печали, как мне хочется припасть к Вашему плечу, к плечу нежного и чуткого друга!»
Что за чушь? Кто так развязно пишет? Да у меня нет никакого такого друга! Я хотел, не дочитавши до конца, разорвать письмо и выбросить за окно, но все же любопытство взяло верх.
«Может быть, Вы не скажете мне ничего, а только с нежной грустной любовью проведете своей рукой по моим волосам. Вы любите густые шелковисто-длинные волосы, волосы женщины?»
Я снова прервал чтение. Я понял, что это откровенно интимное послание, адресованное мне, принадлежит ненормальной женщине, которую я никогда не видел, никогда не прикасался к ее «шелковисто-длинным волосам». Я разорвал письмо и бросил в окно. Ветер подхватил клочки, похожие на белых бабочек, и закрутил их по откосу, красноватому от бликов заката. «А конверт?» Я прочел адрес отправителя и обомлел от удивления: письмо было от Татьяны Романовны, с которой я случайно познакомился на выставке молодых художников. Мы встретились случайно у полотен Архипова, коротко и вяло поговорили о его живописи, познакомились и расстались. Вот и все. Какой же я ей друг? Что она, с ума спятила? Разве у нормальной женщины появится такое желание — припасть к плечу совершенно незнакомого ей мужчины, спросить у него: нравятся ли ему шелковисто-длинные женские волосы? Остальные письма я прочел бегло. Одно было из деревни, от сестры: она просила немножко денег, сообщала, что муж ее на фронте и давно-давно не пишет. Второе — от Кузнецова, работающего слесарем в Н. депо. Он сообщил, что студент Шивелев и его сестра не приняли его, даже не пустили в квартиру, хотя он и сослался на мою фамилию.
«Шивелев, дойдя со мною до калитки ворот и держа дверь за скобку, — писал Кузнецов, — заявил, что он и его сестра уже полгода, почти с самого начала войны, решили жить разумно, как живут все благонамеренно-порядочные люди. Шивелев твердо попросил меня не беспокоить его. Сейчас Шивелев — брат милосердия в лазарете. Устроился он, как думаю я, на такую благородную работенку только потому, чтобы его не взяли на фронт».
Я задумался. Вагон постукивал колесами: летел и летел. Малаховский читал газету, изредка позевывая. Толстенький, полуоткрыв рот, спал и посвистывал носом. Седенький, легкий старичок, поев баранок, неслышно лежал на средней полке. За окном, над полями и селами, висела прозрачная синеватая ночь; божественная ночь! На горизонте, не отставая от окна, розовели и серебрились звезды, — они как бы павлиньим хвостом помахивали поезду, и это было красиво. В открытое окно, колыхая отдернутую занавеску, врывался ласково-прохладный степной ветерок. Он доносил запахи сурепки, молочая и еще каких-то полевых цветов. Донесся скрип коростеля: «Надо мазать колеса, надо мазать колеса» — и тут же замер. В конце вагона плакал болезненно ребенок, и мать, мучаясь с ним, озабоченно и устало-сонным голосом баюкала: «Баю-бай! Испеку я каравай! Баю-бай!» Под потолком в фонарях, воняя салом, светили желудевыми огоньками свечи.
— В вашем городке, как только вы уехали, Ананий Андреевич, произошли большие события, — свертывая «Русское слово», подал голос Малаховский.
— Приезжал архиерей, потом губернатор, — подхватил я. — От приезда их ничего не изменилось в городке: он не сдвинулся с места, крепко стоит все на тех нее холмах. Красивая Меча тоже не изменила своего течения.
— Вы уже, Ананий Андреевич, знаете о приезде таких важных особ? И от кого, позвольте спросить? А я собрался было вас повеселить.
— Вячеслав Гаврилович, когда эти особы приезжали в городок, я проживал в нем и был свидетелем ликования «отцов города». Даже, признаюсь, участвовал в пышной и торжественной встрече.
Малаховский дернул левым плечом, удивленно гмыкнул, обернулся лицом к перегородке, проговорил скучновато:
— Не удалось вас, Ананий Андреевич, повеселить. А жаль? Что ж, будем спать. Спокойной ночи. — И Вячеслав Гаврилович тут же захрапел, прикрыв газетой лицо от мух.
Воспоминания длинной чередой нахлынули на меня, и я так и не уснул до рассвета.
…Я не пошел на вокзал встречать владыку. Его встречала вся знать городка, нарядная и торжественно-счастливая. Большие и малые колокола церквей и собора, когда следовал владыка в закрытой лаковой карете, которую везли четыре орловских рысака, по Знаменской улице к особняку Чаева, заливали звоном и гулом не только городок, но и пригородные села и деревни, откуда толпами валил народ повидать владыку.
Вместе со студентом Федей Раевским мы с трудом протискались в собор и, расталкивая осторожно людей, достигли первых ступенек лестницы, ведущей на хоры. Я остановился, а Раевский, не задерживаясь, прошел на клирос, к певчим: у него приятный голос, и он в торжественные праздники принимал участие в соборном хоре. Старенький, но еще бодрый и ядовитый, в стоящей колом серебряно-малиновой ризе, протоиерей Серафим служил обедню. Как только он показался из алтаря, взмахнул крестом, певчие грянули: «Исполаете деспота». Иконостас сверкал, переливался золотом, сиял суровыми лицами угодников, огнями лампад и свечей, тонких и толстых. Пахло ладаном, сладковатым воском, приторно и жарко — туалетным мылом и потом. То здесь, то там вздыхали миряне, тронутые за́ сердце пышным богослужением. Тульский и белёвский архиерей Иннокентий сидел в кресле посреди собора. От богатого облачения архиерея, его холеной гнедой бороды, от полных розовых щек, от осыпанной жемчугом митры разливалось сияние. Справа и слева владыки стояли в светлых парчовых стихарях, с кирпичного цвета волосами, с девичьими краснощекими лицами иподьяконы. Молящиеся — исправник Бусалыго, городской голова Чаев, купцы первой и второй гильдии, учителя гимназии, духовного и реального училищ, чиновники казначейства, землеустроительной комиссии, члены уездной земской управы с ярко разодетыми и сытыми женами и чадами, малыми и взрослыми, двинулись к кресту, а от креста к его преосвященству под благословение. Первым подошел Бусалыго и поцеловал руку епископа. Вытирая платком пунцовую лысину на куполообразной голове, он поспешно отступил к сторонке, вытянулся, приняв важный вид градоправителя. Позади Бусалыго почтительно вытянулся сухопарый, с рябым и густо набеленным лицом, с жесткими красными усами околоточный Резвый. Затем к владыке подошел в черном сюртуке, с черной бородкой и черными, блестящими от помады волосами Чаев. За ним, шумя шелками, подплыла Екатерина Ивановна. Притерся к ним и Жохов, секретарь уездной земской управы, костлявый, с выступавшим кадыком на тонкой шее. Он с постным выражением на толстом лице принял благословение епископа и приложился к его руке. «Откуда его черт вынес вперед меня?» — прошелестел шепоток торговца железными и скобяными товарами Иванова. Его шепот донесся до моего слуха — в соборе стояла тишина. «Вот мерзавец-то, дворянчик прогорелый!» — выразился Иванов громче и злее. Чтобы не задерживать напиравших мирян, он, сопя и отдуваясь, грузно шагнул и, приложившись к кресту, повернул к его преосвященству и тут же остановился в обалделом изумлении: ему преградила путь молодая нарядная женщина. Она не подошла к кресту, как все верующие, а вышла из толпы и направилась к владыке, опередив Иванова.