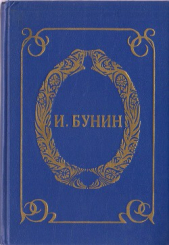Родительский дом
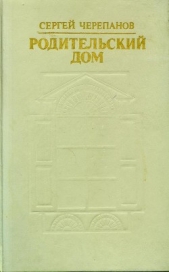
Родительский дом читать книгу онлайн
Жизнь деревни двадцатых годов, наполненная острой классовой борьбой, испытания, выпавшие на долю новых поколений ее, — главная тема повестей и рассказов старейшего уральского писателя.
Писатель раскрывает характеры и судьбы духовно богатых людей, их служение добру и человечности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По этой аккуратности невольно зарождалось подозрение на Согрина: уж у того-то ничего на дорогу с возу не упадет!
В сельском Совете Гурлев высыпал сгноенное зерно на стол у окна, для большей наглядности.
На улице вечерело, дневной свет становился жиже, а подле домов ложились длинные тени.
Один по одному, лениво, нехотя сходились по вызову богатые хозяева, иные закаменело угрюмые, иные в недоумении: еще что-то сельсоветчикам вздумалось? Но, переступив порог, снимали картузы, вежливо гнули спины и солидно мостились на лавку.
Гнилое зерно никого из них не смутило, ни у одного не скривило рот, не дрогнули брови, не вспыхнул в глазах испуг.
Бабкин перебирал какие-то бумаги в шкафу, тянул время, а Гурлев, опираясь плечом о косяк, сидел на подоконнике и молчал.
Крайним, ближе к дверям, нахохлившись, горбился старовер Саломатов, обросший волосьями, грузный и нелюдимый: родного отца выжил из дома, у сестры приданое отобрал. Рядом Хорьков притулился — в залатанном пиджаке. Иван Юдин: даст в долг двадцать — отдай тридцать. Казанцев: этот, пожалуй, живет поскромнее, чем Юдин, зато, если у него в сундуках покопаться, можно и золотишко найти. Уже давно люди говорят: своего богатства он не выказывает, в церкви больших свеч не ставит, свыше пятака в доход попу не дает. Схожи с ним и вот эти — Шунайлов, Щелканов, Ческидов, Чесноков — дородные мужики, до черноты загорелые. Прежде, до революции, Чесноков был целовальником, крупно взял из казны на продаже водки. А Щелканов занимался ямщиной.
Позднее всех явился Прокопий Согрин. Живет из окон в окна с сельским Советом, только через дорогу перейти, а заставил ждать явно намеренно. Он один из всей этой кулацкой верхушки уже давно уплатил все налоги, полностью вывез хлеб в казенный амбар, сколько полагалось с него по раскладке, в своем хозяйстве работает наравне с батраками.
Согрин прошел прямо к столу, взял горсть гнилого зерна, понюхал, горестно качнул головой:
— Ай, ай, что делают люди! — И, бросив зерно обратно, возмущенно добавил: — Судить надо за это! Принародно судить!
Зато глаза у него были холодные, замороженные.
Он уселся на стул впереди всех, оперся пудовыми кулаками в колени и приготовился слушать Гурлева, но тот сделал вид, будто пропустил сказанное мимо ушей, и ровным, ничуть не взволнованным голосом заговорил издалека:
— Граждане кулаки! Вы же знаете: Рассея крайне нуждается в хлебе. У нее каждый пуд на счету. Нынче мы проводим летние заготовки, приходится подбирать все излишки зерна, у кого они есть. Надо же совесть иметь, надо же понимать, что трудящие, которые в городах, для нас же стараются, чтобы мы имели товары. А что же у нас получается? Тут кое-кто желает нас убедить: дескать, излишков нету, самим нечего есть. А вот сгноено зерно, нашли его в Сорном болоте, да, окромя того, еще воз зерна вчера обнаружен в загумнах, в навозных кучах. Как все это понимать? Кому это охота трудящих людей голодом заморить? Кому приспичило Советской власти подгадить? Сейчас пока недосуг дознаваться, ни у кого на лбу метки нет, в чужую душу заглянуть невозможно, а следов даже собака никак не унюхает. И добровольно никто не сознается. Но ведь сотворил такую пакость кто-то из вас?
Он выждал, не возразит ли кто, не обидится ли, но кулаки лишь переглянулись между собой, под Согриным стул слегка скрипнул, Юдин вынул из кармана платок и утер им нос, старовер Саломатов стал еще темнее лицом.
— А теперь возьмем вопрос с другой стороны, — более внушительно произнес Гурлев. — Возмещать ведь придется! Хлебное зерно в болото не с неба свалилось, взросло на земле, выходит, оно не твое, не мое, а народное. И народ вправе стребовать его полной мерой. С кого? Тут надо по справедливости поступить. Виновника нету, пусть вину берет на себя все ваше сословие.
— Да какая же это справедливость? — вроде не понял Согрин.
— Один за всех, все за одного! По нашим прикидкам, загублено сто двадцать пудов. Вот вас тут дюжина собралась. Порешим так: с каждого, помимо раскладки плана, дополнительно по десять пудов. Хотите найти, кто напакостил, — потрудитесь, сами найдите и по-свойски с ним посчитайтесь.
— Я не согласен, — поднялся со стула Согрин. — Каждый из нас живет сам по себе. Да и нету такого закона, чтобы все за одного свой горб подставляли.
Юдин, Шунайлов, Ческидов и Чесноков тоже замахали руками, в один голос наотрез отказались:
— Не можем!
— Мы хоть и лишенцы, но зачем же нас дотла разорять и что случится в селе, заставлять отвечать, — добавил Хорьков. — То ли я виноват, коли справно живу от своего труда? То ли не такой же хлебороб, как все протчие мужики?
— Такой, да не такой, — спокойно возразил ему Гурлев. — Куда же ты излишки сбагрил? На базар! По дорогой цене. Да на самогон перегнал. А что полагалось по раскладке государству продать, тут постой-погоди.
— Нету излишков, — упрямо заявил Хорьков. — Можешь самолично мои анбары оследовать. Осталось до нового урожая только на фураж скоту да семье на пропитание.
— А сколь спрятано в тайниках?
— Пойди найди!
— Граждане кулаки! — обратился Гурлев ко всем. — Мы уже вам не раз поясняли, чтобы призвать вас к сознательности. Положение в стране с хлебом трудное. Не зря поди товарищ Сталин выступал на Пленуме ЦК нашей партии и дал указание: к тем, кто злостно противится, излишки хлеба утаивает — беспощадно применять 107-ю статью Уголовного кодекса. Так что на нее прошу не напрашиваться, дорого обойдется…
— Однако стращать нас, Павел Иваныч, никак не годится, — умеренно прервал его Согрин. — Страхом дела не сделаешь. Разумность нужна. Давай так возьмем в рассуждение: с прошлой осени, сразу после молотьбы мы по хлебу рассчитались? Я хоть сейчас могу квитки показать, сколь мной сдадено хлеба в казенный анбар. Ну, тогда с осени было легче: сколь надо себе на потребу — оставил, остальное, хоть и по дешевке, вам отдал, повинность выполнил. А откудов же теперь излишки появятся?
— Вам про то лучше знать, а понадобится, так мы вместе с вами поищем!
— А у вас на то права есть? — вспыхнул Хорьков.
— Сельсовет постановит, вот тебе и закон!
— Иного решения не будет, граждане кулаки, — подтвердил Федот Бабкин. — К казенному анбару вам показывать дорогу не потребуется. Прошу, чтобы завтра же зерно было сдано, как положено с каждого! И на том до свиданьица!
Он, как постоянный напарник Гурлева, тоже немногословный, понимающий свое назначение, в разговорах с кулачеством был более крут.
Согрин уходил из сельсовета последним, у порога задержался, деловито заметил:
— По существу, конечно, все правильно, Павел Иваныч! Хоть и обидно: где же совесть-то у людей! Выходит, никому, даже ближнему, нельзя доверять. А жить как? Вот я сегодня же соберу все излишки зерна, сдам, но вдруг снова случится оказия, опять безвинно отвечать придется и позор принимать?
— Поговори со своими, — посоветовал Гурлев.
— Я-то поговорю, но не ручаюсь, будет ли толк. Разве каждому в душу заглянешь? Попу на исповеди и то поди правду не скажут. Губить хлеб — грех великий, за то бог не простит…
Гурлев проводил его долгим взглядом.
В заозерье, за дальними лесами, большое вечернее солнце закатилось и багровым пламенем охватило край неба.
Бабкин ушел домой ужинать. Пора было и ему, Гурлеву, кончать дела, а идти домой не влекло. Он сел к окну, облокотился и глубоко задумался.
2
В ночь на 4 августа 1928 года над селом Малый Брод пронеслась гроза. А днем, когда сильно парило, сосед секретаря сельской партийной ячейки Павла Гурлева маломощный середняк Никифор Шишкин начал дележ с женой. Прожил мужик женатым почти двадцать лет, никогда со своей Степанидой не ссорился, жил примерно и вдруг, на удивление селу, подал на развод. Районный судья Кривоногов разбирался с ними долго, советовал помириться, но, обиженная поведением мужа, Степанида не стала его прощать. Обвинял ее Никифор в измене. Даже поколотил немного. Кто-то солгал, будто в те ночи, когда муж оставался ночевать в поле, пускала Степанида к себе молодого любовника. Кто же этот любовник, Никифор доискаться не мог, а вдобавок подтрунил над ним Согрин: дескать, от слабого мужа любая баба станет поглядывать на сторону. На суде Гурлев выступал и тоже пытался помирить соседей. «Кому ты веришь-то? — спрашивал он Никифора. — Чуждому нам человеку! Ведь если добраться до сути, то никто иной, а только сам же Согрин плюнул вам в души». Между тем против Согрина никаких доказательств ни у кого не нашлось. Мужики и бабы, сидевшие в зале клуба, где судился Никифор, между собой пошушукались, а никто голоса не подал. Многие из них ходили к Согрину на поклон: были у него маслобойня, молотилка, и нередко давал он взаймы деньги на определенный срок.