Семья Наливайко
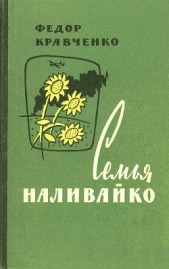
Семья Наливайко читать книгу онлайн
«Семья Наливайко» — повесть, посвященная жизни колхозной деревни в дни войны. Это повесть о трудностях, пережитых советскими людьми в тылу, об их неразрывной связи с фронтом, о величии духа советского народа.
В 1946 году книга была удостоена премии ЦК ВЛКСМ, неоднократно переиздавалась.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Град обрушился на цветник, и на сломанных стеблях беспомощно повисли цветы, которые с любовью сажала мать.
Недолго, однако, бушевала гроза. Налетел ветер и рассеял тучи, погнав их на север. Снова прояснилось небо, засверкали на солнце влажные крыши домов. Яркие росинки вспыхнули в мокрой траве. Земля вновь ожила, но цветник был разгромлен; в лужах, окружавших его, лепестки гвоздики блестели, словно капли крови.
Напрасно поднимал я головки цветов: сломанные стебли не могли их держать; цветы падали в грязь. Я готов был заплакать от досады… Внезапно меня окликнул Костя. Засучив обе штанины до колен, он, как аист, ступал по воде.
— Вот град так град! — горланил он. — У Квашихи окна побил, а у Насти петуха ранил. Лежит и ногами дрыгает.
Я спросил:
— Так чего же ты смеешься?
— А что ж я, плакать буду?
— Ох и дурень, а еще в школе учишься.
— Сам дурень.
— Потише, а то так припечатаю…
— А я сдачи дам.
— На задаток пока…
Я собрался ударить Костю, но он отскочил и, разбрызгивая во все стороны жидкую грязь, начал медленно удаляться.
— Раз так, я тебе ничего не скажу. Один уеду…
По тону Кости я догадался, что он не зря пришел ко мне в такую погоду. Он что-то задумал.
Мы часто ссорились, но все же дружно жили. У него был отец, но не было матери; у меня отца не было, но была мать. Я ему никогда не завидовал, а он не мог смотреть на меня без зависти. Отец покупал ему черные и серые рубахи, чтобы незаметно было, когда загрязнятся. А моя мать всегда шила мне и братьям светлые — белые, розовые, голубые. Когда мы все садились за стол, в хате было как весной в саду. Иногда Костя просил у меня на воскресенье «поносить» сатиновую рубаху.
Мне не нравился Костин характер, это правда, но я жалел его. Ведь он никогда не знал матери. Было ему только три года, когда мать умерла, и он ее не помнил. А у меня такая хорошая мама. Когда я был совсем маленьким, она приносила мне с базара гостинцы. Придет, бывало, в зимний день красивая, краснощекая. Я лезу к кошелке, а она гонит меня: «Простудишься». Потом сама вытащит из кошелки длинные такие конфетины, завернутые в чистый белый платок, и угощает. Целует и угощает. И не то чтоб от конфет было сладко, — материнская ласка — вот что запомнилось на всю жизнь.
Я догнал Костю у колодца. Он не спешил уходить. Он знал, что я догоню его.
Я спросил:
— Ну, что ты хотел сказать?
Он молчал. Меня это озадачило: он вообще болтун.
— Ты чего молчишь?
Костя зажмурил глаза, губы у него задергались.
— Наверно, опять у батьки папиросы стащил? — сказал я.
Я сделал вид, что собираюсь уходить. Он схватил меня за плечи и начал трясти. Он сильный, черт. Повалил меня на борт колодца и в шутку колотил, не давая передохнуть. Я вырвался, а он снова догнал меня и стал щекотать, давясь от смеха.
— Говори ты, косолапый черт, — закричал я, — а то все волосы выдергаю! (Волосы у него рыжеватые, жесткие, словно медная проволока.)
Он посмотрел на меня уже серьезно.
— Киномеханик сказал, что в Киеве есть трубы, в которые на звезды смотрят. Ты хочешь на звезды посмотреть? — Он лукаво подмигнул мне. — Поедем в Киев, мне один железнодорожник обещал достать билеты. Там и школы есть.
— Какие школы?
— Такие… Для меня и для тебя. Для тебя музыкальная. Называется она… Постой… как же она называется? Консерв… коне…
— Какие там консервы! — засмеялся я. — Консервы — это рыба в жестянке.
— Да не консервы, — рассердился Костя и вдруг выпалил: — Консерватория! А для меня драминститут. Там на артистов учат.
Я долго не поддавался его уговорам. Разве можно бросить родное село? Однако и поездка сулила много. Шутка сказать: Киев!
Что, если Костя один уедет? Можно ли было допустить, чтобы Костя уехал без меня?
Стыдно сознаваться, но и я тогда решил уехать из Сорок. Ведь мы были совсем еще мальчишками… Не то, что теперь…
Подготовились оба как следует: я дал Косте свою белую рубаху (все-таки в город едем, пусть пофорсит). Взяли хлеба, яиц и пошли на станцию.
Был ясный и теплый день. Уезжать не хотелось. Но я не мог подвести друга.
Мы разыскали стрелочника, обещавшего достать билеты. Это был рябой усатый дядя с красным флажком в руке. Узнав, в чем дело, он засмеялся:
— А ну, марш с путей, пассажиры сопливые!
Пришлось спрятаться. Недалеко от насыпи, в овражке, пролежали до вечера. И в это время я понял, что уже не смогу вернуться домой. Не успокоюсь, пока не доберусь до Киева. «Оттуда матери телеграмму пошлю, — решил я. — А если хорошо устроюсь, заберу мать к себе: пускай и она, хоть раз в жизни, поглядит на Киев».
Когда стемнело, пришел товарный состав. Мы подошли к заднему вагону. На тормозной площадке стоял кондуктор с фонарем в руке. Он погнал нас так же, как стрелочник; не спросил даже, куда мы едем…
Мы побежали вдоль поезда и разыскали другую площадку, без кондуктора. Костя залез туда. Я за ним.
Несколько часов ехали мы, и никто не обращал на нас внимания.
Ночь была черная, непроглядная, пустая, только ветер хлестал в лицо. Мы ели яйца с сухарями и смотрели по сторонам. Звезд не было, небо затянулось тучами. Даже на дождь было похоже — две — три капли упали мне за воротник. Совсем близко промелькнули вербы — я узнал их по шуму. Вдали то тут, то там появлялись и исчезали огоньки. И вдруг я увидел сияние. Впереди, куда шел поезд, блестели крупные звезды.
Я закричал:
— Смотри, Костя, какое созвездие!
Костя засмеялся:
— Дурень, это фонари… в городе Киеве… Понял?
Я прилип к этим огням и не мог оторваться. Настоящие звезды. Паровоз словно обрадовался — вдруг загудел. Звезды поплыли нам навстречу. Потом показалась станция — белая, огромная.
— Киев! — закричал я, а сам начал по сторонам глядеть: где же Днепр?
— Слезай, приехали, — сказал Костя, спрыгивая с подножки.
Я, конечно, за ним. Вдруг появился кондуктор — лохматый, сердитый. Схватил Костю за руку и швырнул на землю:
— Ты куда?
Костя поднялся и, потирая бока, проворчал:
— Не куда, а откудова.
Он потянулся за мешком, но поезд тронулся, и мешок с продуктами так и остался на тормозной площадке.
Мы забрались в садик возле станции и, сидя на скамейке, ждали рассвета. Так и уснули незаметно. Утром Костя разбудил меня. Смотрю, лицо у него грязное, запыленное, рубаха моя в пятнах (не уберег), и взгляд у него какой-то совсем растерянный. Я оглянулся вокруг — города нет… не видно… Какие-то домики белеют за палисадником, дальше — станция, водокачка, а еще дальше — степь…
Я спросил:
— Где же Киев?
— Какой там Киев! — сказал Костя сердито. — До Киева далеко. — Он еще больше расстроился. — К черту, не хочу быть артистом. Знаешь, что я надумал? Окончу институт… Нет, два института окончу и стану начальником над всеми.
— Наркомом? — спросил я, рассмеявшись.
Он с вызовом посмотрел мне в лицо:
— А хоть бы и так. Три института окончу и своего добьюсь.
Так мы и не добрались до Киева — вернулись домой пешком.
Шли несколько дней. В одном колхозе нас покормили: в другом задержали — хотели в детский дом отправить (мы были похожи на беспризорников). Увидев нас, мать закричала не своим голосом, потом схватила меня, прижала к себе и заплакала. Мне даже стыдно стало перед Костей.
Голова у матери как серебро — седая вся (я ее с малых лет помню такой), а глаза синие-синие. Издали она совсем как девушка…
Конечно, она ругнула меня, но у самой слезы по щекам текли. Одна слезинка по серебряному волоску на губы спустилась.
Целую минуту глядела она то на меня, то на Костю, потом вдруг закричала:
— Ой, чертенки замурзанные… А ну, купаться!
Она дала нам кусок мыла, полотенце и прогнала на речку. Пока мы купались, она выплакалась, как полагается (я это по глазам видел), затем принесла нам чистые штаны, рубахи. Опять мое — мне и Косте.
Я, наверное, косо поглядел, потому что мать прошептала:

























