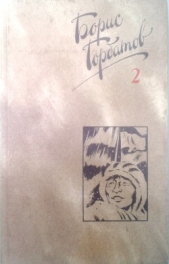Собрание сочинений в четырех томах. 1 том
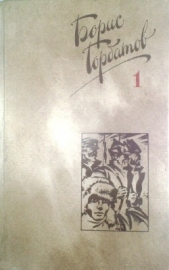
Собрание сочинений в четырех томах. 1 том читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот в кассах лежит свинец. Он мертв. Он тускл и запылен. Палочка. На палочке буква «в». Что она значит — «в»? Ничего не значит. Свинец. Буква.
Но вот пришел я. Я стал над кассой. Я взял верстатку. «О», «в», «а», «м» — мертвые буквы запрыгали у меня в руках. Они, как солдаты, заслышав трубу, бегут, торопясь выстроиться в ровную, легкую шеренгу. Равняйтесь, равняйтесь! Никаких шатаний в рядах! Никакой пустоты! Теснее, теснее! И вот она, вот из немого свинца родилась гениальная мысль: «Озимые посевы требуют глубокой вспашки». Вчера еще люди не знали этого. Они так себе, неглубоко, они еле-еле царапали землю плугом. Но озимые требуют глубокой вспашки, и это я — я, наборщик, мастер и владыка свинца — сообщил людям.
Ах, какая это чудесная, какая благородная профессия!
Потом я узнал, что на свете есть еще много хороших профессий.
Есть горячая профессия доменщика. Доменный мастер Трофим Губенко называет доменщиков «укротителями чугуна».
Бурлит металл в печи. Он горяч и норовист, как кровный скакун. Он горячими волнами ходит в горне, он мечется, он кипит, он рвется, — синее пламя пробивается через все щели, даже через огнеупорную глину. Горновой спокойно подходит к летке. Он берет лом большой, он берет ломик маленький, подручные молча подают все это. Вот он широко расставил ноги. Вот он один на один встал против бешено бурлящего в печи чугуна.
Вдруг горновой качнулся, рванулся и ловким ударом ломика ударил в самое сердце летки.
— Га-ах!
Густой черный дымок вырывается оттуда. Дымок кучерявится и, петляя, ползет понизу.
— Взя-яли! — хрипло кричит горновой. — Ну-ка!
Люди молча бросаются к нему. Они понимают его с полуслова. Они знают свои места. Один становится рядом с горновым, четверо остальных — двумя парами сзади. Их тела сливаются в одном движении. Руки их прикипели к большому лому. Рисовать их надо так: большой, длинный лом (одна прямая черная линия), шестеро тел, двенадцать рук (одна чуть согнутая брезентовая линия).
И вот из печи вырывается чугун. Он появляется в пламени и дыме. Его огненная грива развевается по ветру, из ноздрей валит дым. Он мечется, разбрызгивает вокруг хлопья огненных брызг, он несется в сиянии и славе — неукротимый, горячий скакун. Люди разбегаются в стороны, люди гасят искры на своих рубахах. Только один горновой остается на месте и, прикрыв глаза ладонью, придирчиво смотрит на цвет металла.
Пламя мечется по его лицу, и тяжелые капли пота кажутся каплями густой крови.
Широко расставив ноги, стоит горновой, а под ним по желобу мирно бежит — не конь, не скакун, не поток, не стихия! — хороший белый чугун марки ноль мирно бежит по желобу и, брызгаясь, падает в ковш.
Это замечательная профессия — доменщик. Я знаю обер-мастера Коробова. Он сидит дома, пьет чай, вытирает лоб полотенцем и изредка подходит к окну. Он распахивает окно своей заводской квартиры и, наклонив правое ухо, заросшее рыжим пухом волос, слушает. За окном бушует океан звуков — кричит паровоз, где-то режут железо, соседка завела граммофон, но из всех звуков Коробов вылавливает свое: ровное гудение горелок Фрейна на кауперах новой домны.
Он прислушивается, он прикладывает ладонь к рыжему уху, и в этом гудении старик слышит и понимает дыхание печи. Тихая улыбка появляется на его лице. Он похож сейчас на мать, наклонившуюся над спящим ребенком: ребенок ровно дышит и иногда сопит и чмокает губами.
И Коробов возвращается к своему чаю.
А если в океане звуков, бушующем за окном, нет характерного гудения горелок, старик бросает все и бежит на печь.
Я знаю другого замечательного мастера — Петра Максименко. Он был мастером еще у легендарного доменщика Курако, и уже в те поры Максименко звали «доменным доктором».
Да, доктором! Ибо домна имеет свои болезни, ибо каждая домна имеет свои капризы, и надо долго жить и много работать, чтобы уметь, приложив глаз к фурменному стеклышку, увидеть, чем больна печка.
Но это особая тема, а я хочу сейчас только сказать, что есть на земле много хороших профессий.
Вот такелажники. Я видел их на многих стройках, видел и на Днепре. Этим людям канаты послушны, как музыканту клавиши. Должно быть, чертовски приятно легким толчком ладони подымать над рекой многотонные каркасы, с которых голубыми струйками стекает Днепр.
А вы видели, как поворачивают паровоз на поворотном круге на станциях? Человек невысокого роста лениво упирается спиной в бревно и поворачивает паровоз вместе с машинистом и кочегаром. Машинист выглядывает в окошко и любуется барышнями, гуляющими по перрону. Барышни в белых платьях.
Я люблю поговорить с мастерами своего дела. Как я люблю душу своей профессии, так они любят и знают душу своей.
Мне шахтер скажет, как найти уязвимое место пласта; мне бетонщик поведает секрет ажурного бетона; мне сталевар покажет мудрость полировки кипящей стали; чахоточный стеклодув, загубивший легкие на работе, все же превознесет свою красивую профессию.
Мы пойдем с ними бродить по городу. Мне бетонщик гордо покажет свои здания: они красуются, освещенные закатом; мне сталевар, качаясь, покажет мосты над рекой, рельсы, вспыхивающие багровыми искрами заката; стеклодув молча ткнет пальцем в золотые стекла, по которым стекают последние ослепительные лучи солнца. Только шахтер грустно поникнет головой. Где уголь, который он рубил, законурившись в черной щели забоя? Он сгорел, уголь, в топках сталелитейного цеха, в кочегарке бетонного завода, на стекольном заводе сгорел уголь.
Но я хотел бы быть шахтером.
Я хочу, впрочем, обладать всеми профессиями. Может быть, потому, что я молод, мальчишка, но иногда я хочу переделать все дела, сработать все работы. Я хочу искать нефть в Стерлитамаке и рыть канал на Беломорье, рубить уголь в Донбассе и мчаться на автомобиле по гудрону Крыма, валить лес под Архангельском и класть рельсы Донецкой магистрали, разносить почту по мордовским селениям, водить трактор, ладить сплавные плоты, бить щебень, трамбовать бетон, мерзнуть в пограничной заставе, — я хочу стать мастером многих профессий, всех профессий, какие только есть на земле.
Я все готов делать; я готов работать любую работу, — в каждой из них своя прелесть, своя поэзия, свое счастье.
Но невозможно быть мастером многих дел, а ремесленником быть не следует. И мне хочется научиться писать книги. Мне кажется, что писатель живет, радуется и печалится всеми профессиями: он и уголь рубит и плоты ладит, — все, что делают его герои, — и я очень хочу научиться писать книги.
А тогда, в тысяча девятьсот двадцать первом году, я считал, что нет другой такой профессии, как профессия наборщика. И я ходил, перемазанный типографской краской, на моих ладонях можно было прочесть все, что я набирал в этот день.
Гранки, а не ладони.
Мне очень хотелось, чтобы Алеша увидел меня в таком виде. Хотелось похвастать своим ремеслом, показать свои руки, предложить товарищу папироску, купленную на первый заработок. Но жил я в это время уже в «коммуне номер раз», и ходить на Заводскую было не с руки.
Однажды я случайно встретил Алешу на самом бойком перекрестке. Я шел с работы, он бежал с пакетом.
Я ахнул, увидев его. Он всегда был худым и костлявым, но сейчас передо мною стоял скелет. Желтая кожа, похожая на шкуру турецкого барабана, обтягивала его острые скулы.
— Ты болен? — спросил я испуганно.
— Нет. А что?
— Чем тебя кормят?
Нас толкали прохожие, и мы свернули в переулок. Алеша, зябко кутаясь в кожушок, рассказал, что работает по-прежнему курьером, — ноги еле носят, — а после службы учится в школе.
— Тяжело? — спросил я.
Он усмехнулся.
— Не мед!
О себе я коротко и сухо сказал, что работаю в типографии.
Мне почему-то вдруг стало неловко бахвалиться.
— Наборщиком будешь? — спросил Алеша.
— Да. Хочу быть.
— А я не знаю, чем буду. Так курьером и сдохну.
— Учишься ведь.
— Учусь? Нашему брату учиться коряво. Когда мне уроки готовить? Когда читать? Хлеб добывать надо.