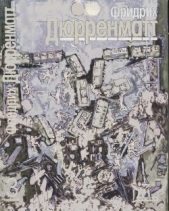Том 3. Корни японского солнца

Том 3. Корни японского солнца читать книгу онлайн
Борис Андреевич Пильняк (1894–1938) — известный русский писатель 20–30 годов XX века, родоначальник одного из авангардных направлений в литературе. В годы репрессий был расстрелян. Предлагаемое Собрание сочинений писателя является первым, после десятилетий запрета, многотомным изданием его наследия, в которое вошли, в основном, все восстановленные от купюр и искажений произведения автора.
В третий том Собрания сочинений входит повести «Заволочье», «Большое сердце», «Китайская повесть», «Китайская судьба человека», «Корни японского солнца» и рассказы.
http://ruslit.traumlibrary.net
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
…ничего не понятно россиянину из того, что я только что написал, потому что россиянин не представляет китайских лиц, китайских домов, китайской вежливости, — того, что китайцы ходят с веерами (и я тоже), — потому что ступни ног, эмоции лица, костюмы у них совершенно не похожи на наши, — потому что музыка их невероятна на наше ухо, а поют они — отвернувшись, лицом от слушателей, лицом к стене, — а декламируют (женщин ведь в китайском театре играют мужчины!) с твердокаменными лицами — под маски — такими тонкими голосами, которые — неизвестно, где у них родятся.
Да, я уехал от них. Приехал домой, в тишину сеттльмента. Поболтал с Локсом. — Приехал я домой в час (и мрак) прилива, когда особенно кричат на канале китайцы. Стоял на террасе, слушал, одиночил, думал. Вдали полыхали молнии. — Потом ходил осматривать мое хозяйство: увидел, что исчезла мертвая летучая мышь: еще меньше стало мое хозяйство… И опять бессоничаю.
Приходил доктор, и я прерывал писание. — Доктор сам правит автомобилем и, проезжая мимо, заезжает выпить содовой, обменяться случайными новостями. По специальности доктор — сексуалопатолог, сексуалопсихолог, — не знаю, как назвать, — сексуальная психопатология — его специальность. Доктор рассказал бывший у него сегодня в практике случай, — и разговор пошел о половой жизни людей. Разговаривали — мы трое и он, — о том, что множайшие тысячи людей несчастны именно благодаря безобразию половой жизни, даже в браке, — благодаря брачному онанизму, возникающему и в несоответствии половых темпераментов, и потому, что теперешняя структура брака заменила понятие полового акта, как акта рождения, понятием акта — наслаждения, избегая детей, прибегая ко всяческим противоестественным приемам, дезорганизующим все — и психику, и здоровье, и радость… Крылов молчал, не дослушал доктора, ушел к себе, — и вернулся только тогда, когда доктор уехал. Мы с Крыловым вышли на террасу. Он сказал мне:
— Доктор говорит мерзости. Я сейчас сидел у себя, один, и мне представилось, что у меня с Катериной — ребенок. Я не знаю, кто он, мальчик или девочка, — но всего меня пронизало счастье, огромное, прекрасное счастье отцовства, разделенного с любимой женщиной.
— Как раз об этом говорил и доктор, — сказал я.
…Бой пришел приготовить на ночь постель, поднял с полу бумажку, развернул, посмотрел, бросил за ненадобностью. У боя замечательное, всегда безразлично-любезное, лицо, на которое я каждый раз внимательно заглядываюсь, — и каждый раз, когда его нет перед глазами, забываю так, что мучусь, не вспоминая, иду смотреть, вижу его безликие непроницаемые глаза, его непонятную улыбку, его скулы и зубы — и мне делается непокойно, я расспрашиваю его о его детях и прошу его дать содовой; — ухожу, — и опять мучусь непонятностью его лица.
Никогда, никогда не забуду я ночных наших поездок за город на автомобиле, когда автомобиль рвет пространства прекрасных шоссе между незнакомых деревьев, между пальм, в этих тропических ночах, когда, если бы не фонарь, не видно было бы в двух шагах. И странная тогда поднимается луна, — должно быть, прекрасная, если бы не было мути удушья и сырости, она кажется ненужным куском синей тряпки во мраке беззвездного, защемленного неба… Иногда автомобиль влетает в стаи летучих светлячков, они разбиваются о стеклянный щит автомобиля, сползают вниз и, мертвые уже, все еще светятся фосфорическим своим мертвым светом… Так машина и мои мозги гонят ночные километры.
…нет, даже во сне я не знал, что такое жара! Сейчас восемь утра, — а я уже повесил сушиться два платка, которыми утирал пот, чтобы не закапать бумагу, — рубашку на мне можно выжимать. Солнца не видно, оно в той бульонной мути, которая облепливает город и меня вместе с ним. Ужасно, — ужасно чувствовать себя все время в бульоне своего собственного пота. Нам, европейцам, делать ничего нельзя, — и мы ничего не делаем, изнывая от жары, сидя под фенами — ветродуями, похожими на аэропланные пропеллеры, — во всяческом, окончательном маразме. С канала тянет трупиной. Мысли липнут от пота, невозможно думать.
11 июля.
Крылов показал мне письмо.
«Катеринушка, родная!
Позволь мне на бумаге разобраться в моих чувствах, для того чтобы отогнать от себя кошмар этих дней. Ты знаешь объективные условия моего пребывания: неувязку с откомандированием, усталость, одиночество, неопределенность, зной, — все это пустяки по сравнению с тем, что я передумал о тебе, как я тебя перелюбил и перестрадал.
Да, у меня были и есть — очень большая любовь, очень большая боль и — очень большая злоба.
Со злобы я и начну, потому что, как ты хочешь, а твое поведение я считаю возмутительным, абсолютно свинским, всячески. В чем дело? — я шлю телеграммы от 24 и 27 июня, от 2, 4 и 6 июля, — ясно, что нервничаю, ясно, что сижу в неизвестности, — молчание. Письма я слал исключительно заказными, не дойти не могли, — я высчитал, когда они пришли. Ты получила письма — от 17, 20, 22, 24, 28 июня. Ты не удосужилась написать целых две недели с половиной — от 19 июня до 5 июля. Черт знает что такое! — ибо, если ты скучала, стало быть, времени много, — а если веселилась, туриствуя, могла бы уделить время. Тем паче, что в Пекине ты раньше меня узнала, что моя откомандировка задерживается, — стало быть, не увидимся долго, — могла бы запросить телеграммой!.. Этак пишет послание через пятнадцать дней, через полмесяца, и не находит нужным спохватиться, объяснить молчание, а — потом, через два дня и через третьи лица, находит нужным справиться о моих проектах. Пишет этакую лирическую белиберду о кружевах, до которых мне меньше, чем до китайского снега, которого не бывает, — а потом приписывает — „ну, родной мой, все тебе изложила, что позволила моя мигрень, — если что забыла, то по этой же причине, т. е. мигрень“, — а в телеграмме — „больно тона твоей телеграммы“… — А где ты была от тонов моих прежних писем, канувших, как горох в стену?! — черт знает что такое!.. Крокодильи слова пишет под классиков, — зачем, мол, расстались? — и умолкает на полмесяца. Письмо налила водой на шесть страниц и не удосужилась строчкой обмолвиться — получила ли мои письма, нет ли? — Ведь я додумался следить за тобой по газетам, по числам их отправлений, — но из газет, к сожалению, многого не узнаешь!..
Что все это значит? — я не сплю ночей, хожу сам не свой, мучаюсь, унижаюсь, прося третьих лиц сообщать мне о тебе, роюсь в догадках, ничего не понимаю, выдумываю тысячи выдумок. Решаю: случилось что-то, что не дает тебе возможность говорить со мною, заставило тебя запереться от меня, — случилось что-то катастрофическое, что ты находишь нужным замолчать, — доколе!? — и я пишу тебе письмо, где прощаюсь с тобой, всю мою силу собрав, чтобы оправдать тебя, чтобы решить, что — раз так случилось — стало быть, так и надо, потому что ты честный, чистый и хороший человек, и никто не волен на волю другого. Я тогда мучился своею злобой, — и писал в том письме, что благословляю тебя, всего хорошего желаю тебе, счастья, — а сам всю ночь просидел на террасе: это, ведь, как хоронить любимого умершего, — еще хуже, — потому что я впервые понял, что такое ревность — мерзкая вещь, звериная. Просидел ночь, всю волю собирая, чтобы изгнать злобу против тебя, — чтобы себе оставить всю боль, а тебе отдать всю радость. Очень трудно и больно. Но этим я и жил эти дни.
Ну, а теперь — пункт третий. Ты письмо это внимательно прочла? — правда? — тогда можно и не говорить, как я люблю тебя… Ах, люблю, люблю, — и не знал, что так люблю, и не знал, что так ты вросла в мое сердце, и не знал, что вырвать тебя из сердца — сил нет никаких, родная, милая, единственная, прекрасная. Сердце сейчас у меня спокойно, я хоть столетья буду ждать тебя, мечтать тобою, — мой путь к тебе будет путем аргонавтов за золотым руном твоих рук, твоих глаз, родная, родная: любить, мечтая, оказывается, совсем не хуже, чем любить, лаская».