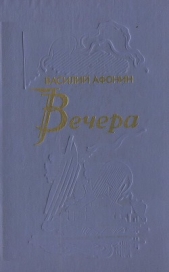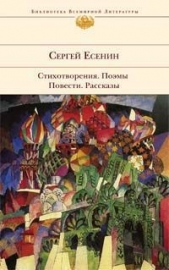В краю родном

В краю родном читать книгу онлайн
В новой книге Анатолий Кончиц продолжает разрабатывать тему неразрывной связи прошлого с настоящим, дня вчерашнего с сегодняшним. Значительное место в повестях занимают размышления о красоте среднерусской природы, о судьбах молодых людей, живущих и работающих на этой земле.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Долго ли, Викентий, погостишь?
— Не знаю, как отпуск кончится.
— Жалко бабушку-то да дедушку?
— Жалко, — признается Викентий. — Любил ведь я их.
— Как не любил, родные ведь. Ну заходи давай в гости.
— Зайду, спасибо.
Вот так и жили в Пестрове. Не много там было народу, не людно, и воздухом дышали чистым.
Викентий вспоминал бабушку и те дни, когда он бывал у нее, те ласковые дни.
Бабушка у Викентия Дарья. А дедушка Иван. Они уже старенькие и всю жизнь прожили в Пестрове, никуда не выезжая, разве что в церковь помолиться. А Викентий не жил в Пестрове, он только родился там. Не жил, но каждое лето ездил туда.
Как выйдешь по дороге из лога, так и увидишь Дарьину избу с провалившейся крышей, она ближе к лесу. У погреба стоит елка. Как увидит Викентий елку, так и затрепыхается у него сердце, словно пескарик в осоке, сорвавшийся с крючка.
Если Викентий встретит у ручья в логу коренастого парня Афиногена, тот машину председательскую моет в ручье, то он подойдет к нему и скажет дрогнувшим, бледным голосом:
— Здравствуй, Афиноген!
У Афони ноги в детстве кривые были. Голодно он жил в войну, рахитом болел. Помнит Викентий, как жарили на плите ломтики сырой картошки, как вкусно она пахла, эта картошка. И теперь он любит такие ломтики жареной картошки. Но не жарит их, так как привез с собой свиную тушенку.
— Здравствуй, Афиноген Потапыч.
Мол, вот я и приехал. Радуйся, как и я радуюсь. А тот руку протянет да и скажет:
— Здорово, Викентий! Только руки-то у меня в мазуте, замараешься. — И подаст локоть. Толстый голый локоть. А на что ему, Викентию, такой толстый голый Афонин локоть? И глаза у того холодные, будто капли вешней воды. И остудится о них разгоряченное сердце Викентия. Он подымается потихоньку в гору по дороге. А навстречу ему Егориха попадется. Посмотрит на него черным глазом и треснет трескучим голосом:
— Викентий! Здравствуешь, Викентий! Во какой молодец стал! Во какой молодец! Бабушка-то у тебя обрадуется. Внучок приехал.
— Обрадуется, — бормочет благодарный Викентий, хотя знает, что Дарья недолюбливает Егориху. Глаз у той черный, вороний. Будто бы посмотрит она этим глазом, и худо тебе будет. Умела она, якобы, и пошептать, да не на добро только. Дарья тоже умела пошептать, но только на добро. А на зло — никак нет. Правда это или враки, но так говорили старухи.
Вот идет весной Дарья за дровами, рассказывала она внуку, полена три взять из поленницы да в печь на ночь положить, посушить, чтобы утром хорошо растопилась печь. А тут Егориха на крыльцо возьмись, да и смотрит. Сосулька-то обломись да Дарье-то в голову и угоди.
— Чего, больно ли, Дарья?! — кричит Егориха.
— Ой, да ведь как не больно, понеси тебя леший!
Да и-заплачет, не от боли, а от обиды больше, и клянет Егориху в душе: «Чтоб тебя уволокло! Чтоб тебя треснуло, окаянную!»
Видишь, опять назло. Висела сосулька, ничего ей не делалось, а тут вздумалось падать ей. Падай бы только раньше, когда Дарья в избе была. Ан нет.
— Сосульки-то нынче хрусткие! — вопит Егориха вслед Дарье. «Ишь тебя дьявол дерет как, — думает Дарья. — Глотка-то здоровая, а робить в колхоз не ходит».
В избе у Дарьи бородатый Иван сидит на лавке, Викентиев дед. Хоть и не виноватый, да поругать его можно, душу отвести.
— Чего сидишь-то?
Тот глаза таращит, ничего не понимает. Мол, как это — чего сижу? Сижу, да и все тут.
— Гм…
— Весь день сиднем просидел. В людях вон мужики…
— Что делать-то? — спросит Иван. А Дарья ему на это:
— Тьфу! Хоть бы дров полено принес.
Да и рукой махнет. И как будто ей легче станет от этого. А Иван все сидит. Да бороду еще пальцем начнет раскладывать на две стороны, чтоб непременно было как у генерала, которого он видел еще в германскую войну.
И вот Викентий заявился к старикам, как и обещал в письме. Был уже конец весны или начало лета, кто его поймет. Деревья оделись в богатую зелень и шелестели мягким голосом под голубым ничтожным ветерком. И когда Викентий целовал старушку, ветхие щеки у нее были что тебе нежные майские листья. А когда целовал деда, то борода его, будто бы клок старого прошлогоднего сена, прикладывалась к его щекам.
— Ишь как, — говорил Викентий, оглядывая стену, усыпанную тараканами. — Вон и тараканы есть. Морозить надо тараканов.
«Лишь бы говорить, — думал он, — лишь бы не разреветься под родной сенью».
— Я уж их, проклятых, душтом морила и куриц пускала, чтоб поклевали.
— Дустом, — поправил грамотный Викентий. — Ну и что?
— Едят дуст, да и только.
— Ну ничего. Тараканы не звери, я тараканов даже люблю. Хотя в наше время редко теперь увидишь таракана. Это как музейная ценность, бабушка.
— Ну-ну, — с сомнением в голосе отвечает старушка. Да уж не перечит внуку. Рада-радехонька, что приехал.
Новости деревенские были рассказаны все. Картофелехранилище вон построили новое. А коровы, глупые какие-то и коровы. Гнилую-то картошку вывалили тут же в кучи. Так ведь хуже баб коровы. Взбредет одной в голову, вот и потянутся все за ней к этому хранилищу гнилую картошку рыть в кучах. Бедный бык ревет, мол, не ходите, дуры! Что вам там за еда, ешьте траву. Куда там. Да и сам вслед за коровами, куда все, туда и я. Мужик ли, баба ли, кто караулит, вот и матерятся, бегают по берегу. Леший бы унес тех коров, леший бы унес это картофелехранилище, да и председателя Круглова заодно, который придумал выстроить склад так близко от реки. Видишь ли, караульщикам-то у реки вольготно: воздуха много, комаров нет и со сплавщиком покалякать на берегу можно. Мол, чего, Парфен Тимофеевич, лес-то не шибко нынче садит? А садит, парень, как не садит. Вот и хорошо, славно побеседовали. И время незаметнее прошло…
— А в Кучке, в верхней деревне, мужик удавился, Прохор.
— Как так удавился? — говорит Викентий.
— А как удавился, взял да и удавился.
— Что ж, у него плохие дела были?
— Да нет, дела-то хорошие.
— Так чего же ему?
— А кто его знает. Видно, леший в петлю сунул.
— Ну ты даешь, бабушка! Да есть ли вообще леший-то?
— А как, поди, нет.
Вот, думает Викентий, все есть в Пестрове. И радио, и электричество, и леший все еще есть, не перевелся, как заяц или глухарь. И улыбается иронически. Эх, старики, старики. Все-то у вас перемешано в голове — и правда, и сказка. Но так оно и должно быть, именно такими он их и любит…
Славную библиотеку выстроили в Пестрове. Чистенько в ней, светло, полы крашеные, горшки с цветами млеют на подоконниках, и все книги расставлены на полках по буквам. А библиотекарша сидит, дремлет на стуле. И ни звука тут, ни души. Мало кто летом книжки читает, на сенокосе все. Разве что Викентий…
Уж смеркнулось, засиделись за самоваром. Комар за окном голос точит, просится в избу. Дарья чашки мыть собирается. И вдруг показалось разомлевшему Викентию, как в углу за печкой что-то вздохнуло:
— Ох-ох..
— Что это? — удивился Викентий.
— А домовой, поди, — загадочно улыбнулась Дарья. «Что за дикость?» — вздрогнул Викентий, однако тоже улыбнулся, потому что вспомнил давным-давно забытое. Было это или одно его воображение, но в памяти удержалось с детских пор. Пили они чай, как и теперь, и вылезло вдруг из-за печки что-то мохнатое, прохладное да и за стол. Посмотрело на Викентия блестящими глазами, моргнуло, и екнуло сердце у парня.
— Да ты не бойся его, Викеша, — ласково сказала Дарья. — Он добрый, одинокий.
Домовой вздохнул и стал прихлебывать чай с блюдечка. Будто бы он давно жил у Дарьи, еще с молодости ее поселился. И на все Пестрово это был единственный, пожалуй, домовой.
Попил чаю старичок, глянул молча на Викентия и убрался за печку. И будто бы Егориха знала, что у Дарьи живет домовой, все хотела переманить его к себе, да никак.
«Вот удивительное дело, — подумал Викентий, — привиделось это мне тогда или приснилось? Наверное, один из моих детских снов».