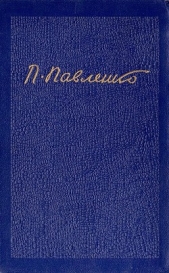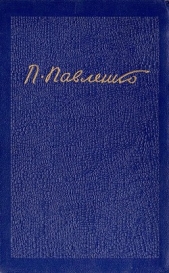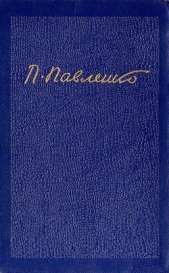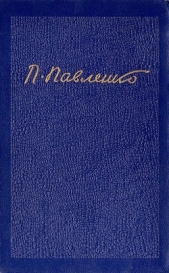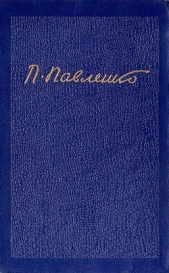Собрание сочинений. Том 1
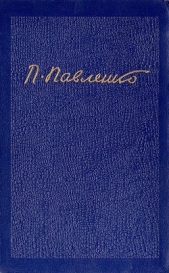
Собрание сочинений. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том собрания сочинений советского писателя П. А. Павленко входят романы «Баррикады» и «На Востоке».
Роман «Баррикады» рассказывает о революционных событиях Парижской Коммуны.
Роман «На Востоке» показывает новые качества людей, созданных Октябрьской революцией. Вчерашние пастухи, слесари, охотники, прачки, ставшие знатными людьми своей родины, создают новое, разрушая старое, дряблое, сгнившее.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— На костре из этой книги сгорит вся революция! — крикнул Равэ. — Впрочем, ну вас к чорту! У меня больше нет головы, у меня на шее ночной горшок, в который каждый может безнаказанно испражняться.
Незнакомая улица, коленчатая, зигзагообразная, прерывающая ровный поток движения, как заика, с трудом довела их, дробясь, рассыпаясь на переулки и пустыри, до небольшого железнодорожного полустанка. Хотя они удалились от места сражения, канонада слышалась здесь гораздо громче. Шлепаясь в стены домов и в железные крыши вокзала, эхо выстрелов громко отскакивало назад, гремя жестью и камнем. Казалось, что каждый выстрел увлекал за собой со стен штукатурку, с крыш черепицу и делал трещины в воздухе. Быстро пройдя сеть запасных и маневровых путей, они вошли в помещение депо. Эхо перестрелки, подражая голосам здешних вещей и металла, ломилось в проруби стеклянной крыши, будто стучало молотком или орудовало резцами.
Необычайного вида локомотив, то задерживая дыхание, то выбрасывая его гулким потоком, беспокойно присвистывал на выходном пути. За ним стояли три вагона, похожие на модели тюрем, без окон, с узкими щелями бойниц, без подножек, с низко сидящими на рессорах корпусами. Колеса локомотива едва видны были из-под угловатой железной попоны, наспех, казалось, надетой на тело этого парового коня. Дым из трубы струился как-то сбоку. Паровоз был похож на курильщика, держащего трубку в кармане.
— Сядем, — сказал Ламарк. — Может быть, придется еще что-нибудь сообразить.
Он никогда не был доволен своей жизнью. Постоянная изнурительная работа и какое-то наследственное безденежье никогда не давали ему возможности заглушить в себе тоску духа, бывшую единственной двигательной силой его жизни. Внимательные, суровые беспокойные глаза Ламарка запоминали каждую мелочь существования, интонации голоса, оттенок поступка, изменчивость самого земного покрова, по которому ступал он, но мир проходил под его взглядом непонятным, необъясненным, недоступным пониманию сразу и сверху донизу, как лес взгляду человека пустыни. Мир он мог бы понять, если бы сам насадил его, как фруктовую рощу. Теперь, когда ему стукнуло сорок шесть, было немного поздно верить в радостную катастрофу, в перемену существования, но тем не менее мысль о том, что эта катастрофа, наверно, случится, была теперь самой сильной из всех других.
Не удивляясь и не печалясь, полный бессознательного доброжелательства решительно ко всему, что вовлекало его на новые жизненные дороги, он расчетливо копил в себе бодрость. Он извлекал ее из всего — из поступков своих и чужих, из рассказов, из снов, из прочитанного. Он следил за своей бодростью, как за пищеварением или сердцем. Вдруг получить жизнь иную! Это было настолько невероятно, что могло бы осуществиться единственно при помощи катастрофы — неожиданно, опасно и до конца радостно.
Он предложил присесть, так как начал теряться.
— Когда это тебе пришло в голову? — кивнув на локомотив, спросил Левченко.
Ламарк растерянно развел руками. Ему было легче рассказать окружавшие открытие обстоятельства, чем объяснить методы его нахождения.
— Это в Аньере, — сказал он. — Версальцы садили из крепостных мортир. Народ — туда-сюда, укрыться почти что негде. Особенно эти калеки. Кто куда. А тут снаряд — рраз! — по вагону и ссыпал набок железо. Я железо вез, двухдюймовые плиты, я тебе говорил. Они — одна на другую, врозь, вкось и шалашом встали. Калеки — в шалаш этот. Хохот поднялся. Два часа так отсиживались. Тут я и догадался — железный шалаш, думаю, надо Домбровскому. А у него уже немцы со своим планом: железную баррикаду на колесах придумали выпустить, с угла на угол перевозить ее чтобы. Знаешь, до чего остроумно! Ну, мы и объединились. Вот как оно совсем просто вышло.
— Это весьма практично, — сказал один из немцев. — И ново.
— Но не изучено, — заметил другой. — Не изучено так же, как митральеза. Это не больше как оригинальность, в то время как передвижная баррикада была бы… Там, господа, мы располагали бы большим опытом.
— Вы думаете неверно, — сказал им Левченко по-немецки же. — В сущности, железная обкладка баррикад не такая уж новость, вы придаете ей только подвижность. Но подвижной баррикадой являются даже дома вдоль улицы, на которой развертывается операция. Возьмем, например, два дома — один напротив другого. Заняв их, мы выбрасываем из окон на мостовую все, что попадается под руку — мебель, матрацы. Вот вам первая баррикада, завал. Когда он теряет значение, вы перебираетесь в следующие дома и выбрасываете из их окон второй такой же завал.
В это время стрельба застучалась в стены депо, как ветер. Стекла забились мелкой скрипучей дрожью. Млечный путь пара над паровозом дрогнул и осел книзу, будто на него что упало. Левченко тотчас прекратил объяснения с немцами.
— Сегодня мы перейдем в эпоху нового вида оружия, — сказал он. — Ну, друзья, давайте занимать места.
— Слушайте, на чью голову, спрашиваю я, мы изготовили все эти штуки? — сказал Равэ. Он закрыл лицо рукой, чтобы успокоиться.
Поезд выползал из депо. Немец поспешно свернул папиросу из толстой бумаги и предложил ее Равэ.
— Пит-ест деньги ест? — спросил он шутливо. — Спат, — сказал он потом и, подняв брови, отчего ощерилась на скулах его рыжая борода, произнес очень раздельно и почти не коверкая: — Ночь, сон, все хорошо, — он махнул рукой и, не оглядываясь, вскочил в вагон.
В этот час Домбровский, переправившись через Сену на лодках, окружил замок Бэкон. Версальцы бежали в сторону Курбевуа. В Аньере завыли локомотивы. Под огнем версальцев через Аньерский мост промчался поезд, обитый железом. Его вел машинист Ламарк. У Аньерского дебаркадера, почти не убавляя скорости, он высунулся из паровозной будки наружу.
Станционное здание рушилось на его глазах. Оно было залито огнем пожара и вспышками взрывов.
— Вы уже здесь, генерал? — крикнул он, увидев Домбровского.
— Путь свободен до Шарльбурга! — крикнул тот. — Жду вас обратно через два часа.
Ламарк в ответ на это прибавил скорость. Прилаживая орудия, немцы тарахтели молотками внутри вагона. Левченко, балансируя на зыбких грудах угля, пытался пробуравить темноту тонким сверлом подзорной трубы.
— Проходим Коломбо! — сообщал помощник Ламарка. — Семафор!.. Шарльбург!.. Мануфактура!..
— Огонь! — Левченко дернул сигнальный шнур.
Железный наряд поезда, грохоча, вздрогнул от выстрела.
— Огонь!
— И как это меня надоумило не разгружать тогда железа в Аньере? — сказал в перерыве между грохотами Ламарк. — Прибавить скорость?
— Прибавь! Огонь по Мануфактуре!
Курбевуа отвечал на выстрелы поезда панической стрельбой во все стороны.
…Но Равэ не в силах был овладеть неизвестностью, его окружавшей. Он бегом бросился к Сене.
Несмотря на то, что я в Париже всего шестой день, недоедание уже дало себя знать, я чувствую себя чрезвычайно слабым. Мой обед состоит из тарелки супа и маленькой порции какого-то другого блюда. Голод только усиливается от раздражения пищей, вследствие этого я очень мало хожу и почти никого не видел из числа старых знакомых. Вчера я послал посыльного с запиской к Андрэ Лео. Она ответила, что ждет меня через час в церкви св. Амвросия, где у нее предстоит небольшое заседание представительниц женских трудовых объединений. Мне пришлось спешить на улицу Попинкур, о которой я до того ничего не слышал. Здание церкви, ставшее пролетарским клубом, поразило меня своей будничностью. Ближе всего оно напоминает манеж, увенчанный нелепым куполом и обезображенный боковыми пристройками.
Президиум заседал на алтарном возвышении. Деревянная статуя отрока Христа была опоясана красным шарфом. Устанавливая тишину, председательница Катерина Лефевр, швея, звонила в колокольчик, употребляемый в утренних богослужениях. На одной из последних скамей я увидел фигуру русского социолога Лаврова; его изумительная голова резко выделялась среди женских. Андрэ Лео встретила меня в проходе между камнями и увела в ризницу, украшенную гобеленами, откуда можно было наблюдать за тем, что происходит в зале. Она тотчас стала называть мне имена наиболее выдающихся революционерок. Она показала мне Дмитриеву, русскую эмигрантку (прекрасное умное лицо, полное той внутренней чувственности, которая всегда выдает людей необузданного интеллекта), еще одну русскую, фамилии ее я не запомнил, и обратила внимание мое на двух героинь: Гортензию Давид и Клару Фурнье, лучших канониров Сенской флотилии. Крутые тела их вбирали в себя одежду, как тесто вбирает ставшую тесной форму, и грубый костюм местами казался цветными складками кожи. Они громко хохотали, ударяя себя по ляжкам. Лео была очень разочарована, что я так мало знал о парижских женщинах. Конечно, она спросила меня о том, что я слышал в Англии о ее журнальных успехах, и затем, не замечаю ли я необычайных достижений, которые сделала революция.