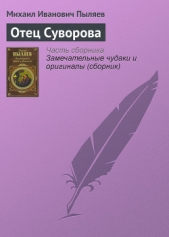Повести

Повести читать книгу онлайн
В настоящее издание включено две повести П. И. Замойского (1896-1958) "Подпасок" и "Молодость", одни из самых известных произведений автора.
Время, о котором пишет автор - годы НЭПа и коллективизации.
О том, как жили люди в деревнях в это непростое время, о становлении личности героев повествуют повести П.Замойского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Некоторые коровы любят баловаться с колючим татарником. Это — не лакомство, а охота и притом опасная. Подойдет баловница к высокому татарнику, покосится на него и головой затрясет, а в глазах озорство. Знает — нелегко одолеть татарник с острыми иглами, но в том‑то и забава, что хочется одолеть. И вот зайдет к нему ‘го с одной стороны, то с другой, нюхнет, дотронется ноздрями до колючек, наколется, опять качнет головой. Ведь щекотно же! Особенно прельщают головки татарника: их иногда штук десять. Некоторые уже цветут. Особенно красива самая большая, на высоком стебле. Стебель весь покрыт колючками, как чешуей, а наверху пунцовый мягкий цветок. Вокруг цветка колючки, как хищные зубы. Все дело — в ловкости, сноровке. Надо так обхватить стебель языком, чтобы колючки не впились в язык, а были прижаты к стеблю. Надо схватить языком снизу и сразу вверх и тут же рвать. Несколько раз корова трогает его языком, но, наколовшись, отходит. Слюни текут, глаза горят, хвостом крутит, но не отступает. И когда достаточно смочит слюной колючки, тогда, еще раз, крутнув головой, забрасывает со стороны широкий язык, хватает под самый цветок, рвет и стягивает его в рот по ходу колючек.
Ни одна корова, как бы она ни была голодна, не станет есть травы, выросшей возле помета, не станет есть травы и там, где растут грибы–опенки.
Воду пьют тоже неодинаково. Иная пьет тут же, у берега, как только дорвется, воду мутную, взбаламученную ею же. Другие не станут пить не только мутную, но и просто у берега. Они, мутя воду другим, сами уйдут подальше, иногда — чуть рога видны. И уж там, фыркнув на воду, очистив ее от сора, начинают пить медленно.
Много познал я коровьих привычек. Вот еще чистоплотность. Ведь на иную корову просто глядеть страшно: грязная, в навозе, шершавая, глаза грустные. А другая — чистая, прилизанная, веселая. Первая — неряха. В хлеву или на стойле она ложится, не разбираясь, часто прямо на свой же помет, и горя ей мало, лентяйке. А чистеха никогда не ляжет на грязное место. Она выберет место, осмотрит, и уже потом осторожно ляжет. Грязнуля встанет, даже не отряхнется, а чистеха встанет, отрясет с себя сор, обмахнется, потом начнет облизывать бока.
Места лёжки на стойле почти у всех коров постоянные. Изредка они меняют их. Бывает, что место лёжки уже занято другой коровой. Тогда та, которой принадлежит место, подойдет к лежащей и беззлобно кольнет ее в бок: убирайся, мол…
Утренняя кормежка окончена, коровы начинают ложиться. Но мы поднимаем их и гоним к лесу. Там возле канавы, кем‑то давно выкопанной, у нас «сухое стойло». По бугру канавы — кустарник. Там и наш куст, под которым мы сидим, когда коровы лежат. Первыми бережно ложатся стельные коровы. Мы уже знаем, когда какой телиться и приглядываем за ними. Потом ложатся старые, хрустя своими иссохшими ногами. И остальные — одна за другой. Каждая, когда ляжет, сморщит нос, тяжело вздохнет. Это мы называем: «одевается». Долго не ложатся телки. Но вот и они улеглись. И уже лежит все огромное пестрое стадо. Лежит, дышит, жует жвачку.
Откуда ни возьмись, налетает полчище серых скворцов. Они опускаются на коров, как крупный град, и вот начинается их суетливая работа: торопливо копаются в навозе, лезут под коровьи морды, забираются на рога, на спины, что‑то клюют, кричат, бегают по коровьим хребтам, но коровы лежат смирно, даже головой не поведут. Натешившись вволю, а некоторые набрав шерсти в клюв, дружно, будто по команде, взмывают и косяком, — словно ветер сдунул их, — улетают в степь.
Дядя Федор сидит на выступе канавы под кустом. Вынимает из‑под корневища недоплетенный лапоть. Тут у него целый склад лаптей, лык, ивовых прутьев, из которых он плетет кошелки и плетюхи. Скоро начнет плести из новой соломы шляпы.
Ванька с Данилкой отпросились в лес.
— Лык свежих принесите, — наказал им старик.
Я лег под кустом клена. У меня тут свой склад. Под корневищами выкопал я нору, устлал дно ее сухими листьями, мхом и в этой пещере, которую закрываю, когда сгоняем стадо, храню свои тетради и книги. Дядя Федор не любит, когда я читаю книги. Хотя и знает, что я сдал экзамен с похвальной грамотой, все же книги считает баловством.
Я поднял дерновую дверку. Книги мои и тетради лежат, ждут меня. Протянул руку и чуть не вскрикнул. Маленькая мышь сидела на книжке «Детство» Толстого. Мороз пронизал меня.
— Шишь, чорт! — заорал я недуром.
— Кого ты? — окликнул дядя Федор.
— Мышь тут на книжках.
— Ужель правда? — произнес дядя Федор радостным голосом. — Ну‑ка!
Он подошел, глянул в пещерку. Мышь словно была заколдована. Она даже не шевелилась и спокойно смотрела на дядю Федора. А старик вдруг залился громким хохотом.
— А ведь и правда! Ты гляди‑ка, а? — приговаривал он, и лапоть, который плел, трясся в его руке. — Ну‑ка, лови! Полкан! — крикнул он собаку.
Полкан лежал под кустом. Едва услышал, как уже был тут, крутнул хвостом, поглядывая на хозяина.
— Ну‑ка, сюда! — поманил его. — Видишь? — и чуть мордой не ткнул его.
Вдруг мышь скользнула мимо носа Полкана. Он бросился за ней в куст. Мышь уже попискивала в его зубах. Полкан отбежал с ней в сторону, отпустил, посмотрел, снова схватил и снова отпустил. Мышь лежала. Виляя хвостом, вернулся и посмотрел на хозяина.
Дядя Федор ушел. У меня вся охота к чтению пропала. Я лег под кустом в тень и начал смотреть в небо: оно было глубокое,‘синее. Сначала ни о чем не думалось. Внезапно в ушах прозвучало складное: мышка — книжка. И вот опять ужо знакомый озноб по всему телу. Это напрашивалась какая‑то новая басня. Три десятка их, этих басен, записаны в тетрадях и лежат в пещере. Я их не перечитываю. Записываю так, как слагаю. Идя за стадом, заучиваю наизусть, потом пишу в тетрадь.
И вот теперь лежу, смотрю в небо, а в голове, помимо воли, начинается: «мышка — книжка, веря — зверя, пройти — найти, далось — довелось, какой — Толстой, пещере — потерей». Вереница складных слов! Оци прыгают, переплетаются, мечутся взад–вперед, отскакивают, а на их место новые. И я уже шепчу первые строчки басни. Я хорошо не знаю, о чем будет басня, но мне уже смешно. Смешно, что мышь сидела на Льве Толстом. Мышь и лев. Лев — царь зверей. Лев — мудрость. Толстой. Мышь тщеславная. Она неграмотная, но хочет стать мудрой. И о ней кричат: «Слышь‑ка, слышь‑ка, у нас ученая есть мышка!»
В глубине синего неба чуть видно облачко, ниже — другое, оно белее. Они движутся навстречу, вот уже близко, вот друг над другом. Мысленно прыгаю с высокого облака на низкое. Оно мягкое. Иду по нему, как по овсяной мякине. Облако набилось в лапти, ноги у меня тоже белые.
Тень от куста, как живая, уходит от меня вправо. Движутся и облака, и солнце, и вся земля. И все огромное небо, качаясь, клонится. У меня кружится голова. «Свет в пещере заслонило, перед входом пес угрюмый…»
Прыгает толстая кобылка. Она ленива, как стельная корова. Оттуда, куда она тяжело прыгает, в разные стороны, разлетаются, как овес, сухие кузнечики.
Коровы, закрыв глаза, лежат все до одной. Некоторые еще жуют. Изредка сонно встряхивают хвостом, сгоняют мух. Бык Агай — в середине. Он не склонил головы вбок, ему мешают рога. Он спит с приподнятой головой. Попадья тоже спит. Бурлачиха свернулась калачиком. Вон Хоря и ее подчиненная подруга Дода — вместе лежат. Поодаль ото всех — корова Мямля. Ей скоро телиться, и она держится особняком, боясь, как бы какая дура не зашибла ей рогом живот. Мямля то и дело вздрагивает, тихо мычит, поворачивая голову к животу.
Скоро сенокос. Вот в степи будет весело! Дядя Федор все плетет и плетет. Он делает в день по две пары лаптей, продает их по пятнадцать копеек.
«Думай, думай, пес угрюмый… Капкан — Полкан…»
Нет, надо записать.
Больше половины я уже затвердил. С опаской заглядываю в пещеру. На Толстом никого нет. Вынимаю книги: их у меня четыре — Толстой, Крылов, Гоголь, Некрасов. Под книгами — тетрадки. В одной — карандаш. Кладу тетрадь на книгу Толстого, оглядываюсь па дядю Федора — он сидит, на стадо — оно лежит, на лес — ребят еще нет, — и лихорадочно пишу название: «Мышка и книжка».