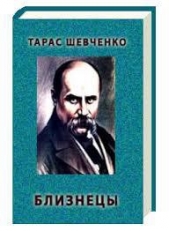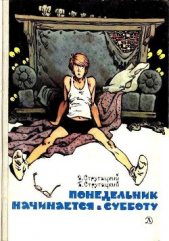Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет (сборник)
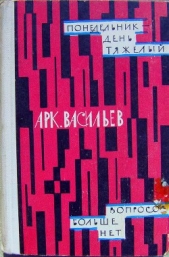
Понедельник - день тяжелый. Вопросов больше нет (сборник) читать книгу онлайн
В сатирическом романе «Понедельник — день тяжелый» писатель расправляется со своими «героями» (бюрократами, ворами, подхалимами) острым и гневным оружием — сарказмом, иронией, юмором. Он призывает читателей не проходить мимо тех уродств, которые порой еще встречаются в жизни, не быть равнодушными и терпимыми ко всему, что мешает нам строить новое общество.
Роман «Вопросов больше нет» — книга о наших современниках, о москвичах, о тех, кого мы ежедневно видим рядом с собой. Писатель показывает, как нетерпимо в наши дни равнодушие к человеческим судьбам и как законом жизни становится забота о каждом человеке.
В романе говорится о верной дружбе и любви, которой не страшны никакие испытания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И действительно, Ерикеев вспомнил:
— Я вижу перед собой лица юных друзей. Я вспоминаю, как я много, много лет назад с душевным трепетом входил в мастерскую незабвенного моего учителя и друга Фастовского…
Пока Ерикеев предавался воспоминаниям, Вася Каблуков искал глазами Володю Сомова. Он увидел его рядом со Стеблиным. Хотя Леон Аполлинарьевич и не являлся членом союза, он гнушался сидеть с юными активистами и устроился поближе к маститым — заработки давали ему право чувствовать себя с ними почти на равной ноге. Позади Стеблина рыжели бакенбарды Латышева.
Вася попытался пробиться к Володе, но кругом зашикали, а Лавочкин снова предупредил:
— Сейчас измолотит Бодряева!
И действительно, оратор принялся за автора «Кваса-батюшки»:
— О теме я ничего худого сказать не могу. Тема народная. Как известно, квас — напиток национальный. Дело не в квасе. Дело в композиции. Все вы помните полотно «Пшеница-матушка»? Чем же композиция «Кваса-батюшки» отличается от «Пшеницы-матушки»? Да ничем. Бодряев просто выкосил центр пшеничного поля почти до самого дерева и посадил на жнивье всех охотников перовского «На привале»» переодев их в пиджаки, сшитые в артели «Краюхинская швея». Правда, у Перова четыре фигуры…
— Считать надо уметь! — крикнули с последнего ряда. — У Перова три фигуры, а не четыре.
Ерикеев язвительно усмехнулся.
— Три, говорите? А прекрасная охотничья собака куда у вас сбежала? — И победоносно продолжал: — Так вот, у Перова четыре фигуры, из которых, как я уже объяснил, одна — великолепная охотничья собака. А у Бодряева семеро и ни одного сеттера. Самый пожилой из переселенных Бодряевым в эту старую, знакомую с детства композицию пьет из жбана квас…
— Сейчас рикошетом по Дормидонтову ударит, причем беспощадно, — объявил Лавочкин. — Ну, держись, Макар!..
Ерикеев грустно продолжал:
— И вы, дорогой товарищ Дормидонтов, такой большой, такой тонкий мастер, назвали эту… я не нахожу слова… картину серьезным достижением. Непонятно! Какие душевные мотивы двигали вами? Я же не могу поверить, дорогой мой, что вы ничего не поняли. Вы все поняли. Все. Да, все!
Ерикеев поднял руку над головой:
— Авторов таких произведений надо бить муштабелем…
Председатель постучал по графину карандашом:
— Прошу, товарищ Ерикеев, неудобопроизносимых слов не употреблять…
— Извиняюсь, — поклонился Ерикеев. — Не буду. Но, по-моему, муштабель — слово вполне удобопроизносимое…
— Последний залп, — сказал Лавочкин, пробираясь к выходу. — Сейчас кончит.
Ерикеев галантно поклонился:
— У меня все. Я кончил.
Председательствующий постучал по графину карандашом и объявил:
— Слово имеет критик Татьяна Муфтель! Прошу не расходиться…
Просьба была явно излишней — в зале осталось не больше десяти человек, главным образом неофитов с передних рядов.
Критик Муфтель, маленькая, пухленькая, с гладко причесанными волосами, поправила тяжелые, спадавшие с носа очки, подняла короткую руку с маленькой ладонью и торжественно произнесла:
— Ушедшие пожалеют. Я буду говорить правду в глаза!
Васе очень хотелось послушать правду, но его поманил Володя Сомов:
— Пойдем в буфет… Там интереснее.
В буфете было полно. Преобладали маститые и гости. Только пробрались к стойке, как к ним подошел Леон Стеблин:
— Вы из горпромсовета? Случайно, не меня разыскиваете?
В глазах у него блеснул плотоядный огонек: «Может, заказ?»
— Совершенно верно, — охотно сообщил Вася. — Хочу поговорить на тему «Искусство и жизнь». Как вы думаете, дадут мне слово?
— Дадут. Я постараюсь….
Голос председательствующего, усиленный радио, звучно произнес:
— Объявляется перерыв! Просьба собраться в срок.
Бывает на собраниях, особенно на отчетно-выборных, такой момент, когда говорить больше уже не о чем: все высказано предыдущими ораторами, все выяснено, все освещено и пора бы переходить к принятию резолюции — «Считать работу удовлетворительной».
Но в президиуме шепчутся, качают головами: «Мало было критики!», «Как бы нам того, не всыпали за излишнюю оперативность!», «Хорошо бы еще человека два выпустить, послушать».
Но желающих выступить нет. И тогда председательствующий, еще раз пошептавшись направо и налево, приветливо улыбаясь, говорит:
— Объявляется перерыв!
Участники собрания шумно идут в буфет, в курилку. У них заслуженный отдых. Но нет отдыха руководителям собрания, и даже не столько им, — они еще найдут время проглотить за кулисами бутерброд и опрокинуть в себя бокал номенклатурного напитка боржоми, — сколько помощникам руководителей, так называемому «аппарату».
«Аппарат» бегает из буфета в курилку, из курилки в фойе — ищет ораторов. Обнаружив подходящую жертву и уговорив ее «сказать хоть пару слов», «аппарат» торжествующе докладывает начальству в надежде, что все наконец в порядке. Но не тут-то было. Начальство хмурится: «Да он (она) ничего путного не скажет. Ну уж, раз договорился, бог с ним (с ней), пусть выступает. А ты, голубчик, разыщи, пожалуйста, этого… как его… Рябцова и попроси выступить. Скажи, что я лично его прошу… Иди, голубчик, иди, потом заправишься…»
Случается, что интересы сидящих р зале резко расходятся с интересами президиума.
Едва председательствующий произнесет: «Слово имеет товарищ…», как из зала кричат: «Прекратить прения!»
Начинается дискуссия — прекратить прения или продолжать. Спорят самозабвенно и ровно столько времени, сколько потребовалось бы для выступления двух ораторов. Затем принимается решение:
«Пчелкину и Корытову дать слово, а Бабочкину и Желтову не давать».
И Пчелкин, окончательно было потерявший надежду глаголом жечь сердца коллег, поднимается на трибуну.
На собрании в Красхе все шло по вышеизложенному методу. После перерыва выступить пожелали двое — Василий Каблуков и Латышек. Спорили долго, до тех пор, пока Алексей Потапыч благородно не заявил, что он не настаивает на выступлении здесь, а воспользуется своим правом «друга художников» где-нибудь в кулуарах. Когда утихли по этому поводу овации, на трибуну вышел Вася Каблуков.
Он молча развернул большой сверток и деловито поставил на трибуну черную кошку и подсвечник.
Чей-то иронический голос произнес:
— Вещественные доказательства по уголовному творчеству Леона Стеблина…
— Совершенно верно, — согласился Вася. — Дело по обвинению автора в порче вкуса… Дело есть, а статей в кодексе нет. Вот я за этим и пришел сюда. В товарище Стеблине я хочу пробудить совесть, а у вас, товарищи художники, вызвать желание заняться бытовой скульптурой.
— Демагогия! — крикнул Стеблин, пробираясь к трибуне. — Запрещенные методы критики. Я не позволю…
Слух об интересном выступлении дошел до буфета и курилки. Художники и гости побросали папиросы и устремились в зал. А в зале стало тихо-тихо, как в поле перед грозой.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,
объясняющая, что такое первые пять кинут власти
У тети Ули Тряпкиной, курьера гончарного завода, были свои годами выработанные маршруты. Если ее посылали в прокуратуру, что случалось довольно часто, она предварительно заходила в мясной магазин посмотреть, нет ли ливера. Путь в горсовет всегда лежал через рынок, где тетя Уля, приценившись ко всем продуктам, покупала в конце концов пучок зеленого лука, одну помидорину и два малосольных огурца. По дороге в горком партии она заглядывала в галантерейный магазин узнать, нет ли вязальных спиц, и в аптечный киоск за поливитаминами, с которыми любила нить чай.
Получив от директора Соскова строгий наказ доставить ящик с вазой на квартиру Соловьевой, тетя Уля задумалась— куда же ей заехать? Отвезти эту «чертовщину», как мысленно окрестила тетя Уля вазу, сразу по назначению было выше ее сил, тем более что лошадь ей давали не часто.
Как только телега выехала из заводских ворот, тетя Уля приказала:
— На Мельничную!
На Мельничной жила ее старшая сестра.