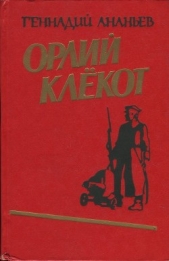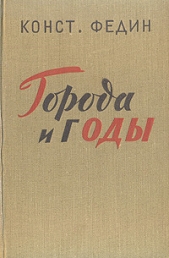Города и годы. Братья
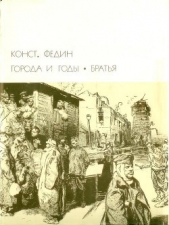
Города и годы. Братья читать книгу онлайн
Два первых романа Константина Федина — «Города и годы», «Братья» увидели свет в 20-е годы XX столетия, в них запечатлена эпоха великих социальных катаклизмов — первая мировая война, Октябрьская революция, война гражданская, трудное, мучительное и радостное рождение нового общества, новых отношений, новых людей.
Вступительная статья М. Кузнецова, примечания А. Старкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Экстренные те-ле-грам-м!
— Экстрен…
— …гра-ам-м!
Словно разлили по городу крепкое вино, и люди захлебываются им и плавают, тонут, пропадают в вине.
Курт мнет в комок белый, усеянный рублеными буквами лоскуток бумаги. Потом разглаживает его, скользит острыми глазами по отчетливым строкам, опять сминает бумагу в тугой комок, кричит:
— Обер!
Расплачивается, выбегает на площадь. Там — в шуме и дрожи города, захлебывающегося, тонущего, — он вдруг останавливается посреди тротуара. Его обходят, толкают, на него озираются. Он ничего не замечает. Он смотрит через головы, плечи, шляпы и зонтики прямо перед собой, в ту сторону, куда только что шел. Так же внезапно, как остановился, поворачивается, пересекает площадь, садится в трамвай. К вагону, оторвавшись от людской толчеи на тротуаре, через площадь бежит какой-то человек. Вагон двинулся. Человек ускоряет бег, вскакивает на подножку, входит в вагон, разыскивает кого-то глазами.
— Курт!
Курт смотрит на улицу, мнет в руках белый лоскуток бумаги.
— Курт, Курт!.. Ты видел меня?
Курт повернулся, засунул руки в карманы. Его рот сжат, верхние тонкие веки придавлены бровями.
— Нам не о чем говорить.
— Курт!..
— Послушайте, — начинает Курт.
Но тот, кто назвал его по имени, хватается за голову и шепчет:
— Так ты убежал от меня?
Курт опускается на скамью. Губы его вздрагивают, глаза краснеют. Может быть, он сейчас улыбнется, может быть, зарыдает, может быть, вскрикнет.
Он говорит тоже шепотом:
— Я ненавижу тебя, Андрей… Я должен ненавидеть! Уходи. Прощай… Уходи же!
— Ты говоришь наперекор рассудку, наперекор сердцу!
— Сердцу? Сердцу? — кричит Курт и поднимается с сиденья. — Уходи, оставь меня. Нам не о чем говорить. Уходи же!.. Иначе я закричу на весь вагон — кто ты, и тебе…
— Кричи, кричи! Я не сделаю ни шага!
Они стоят лицом к лицу, не сводя друг с друга упрямых глаз, и лица их бледны, перекошены напряженьем, покрыты потом.
— Я жду.
Курт молчит.
— До свиданья, Курт. Ты опомнишься, я знаю.
— Я не лицемер. Прощай, — говорит Курт, отвертываясь от Андрея.
Старцов соскакивает с вагона. По улице, навстречу ему, летит на велосипеде газетчик и рвет тишину охриплым воплем:
— Экстренные теле-грам-м!
— Экстрен…
— …гра-ам-м!..
Дома кругом тихи и безлюдны, в открытых окнах желтеют и курчавятся цветы, нависшие над этажами мансарды хоронят покой улиц. Люди ушли отсюда в центр — к барам, автоматам, редакциям и киркам, ушли, убежали, умчались, чтобы видеть своими глазами, как город, который дремал долгие века, пробуждается к войне и славе.
Андрей идет тихо — окраинами, притаившимися переулками, в неровном, кривом строе старых каменных жилищ. Спешить не надо. Спешить некуда. Позади — годы, которых не вернешь и которые не нужны; люди, которые никогда не станут прежними, никогда. Не все ли равно, куда идти? Не все ли равно, куда придешь? И дойдешь ли куда-нибудь?
Переезд через дорогу на Фюрт — первую, старейшую дорогу Германии, — переезд, которым так часто проходил Андрей, охраняется солдатским патрулем.
Заметил ли Андрей, что на солдатах зеленовато-серые мундиры в матовых пуговицах, ранцы из телячьей шкуры, каски в холщовых чехлах и патронташи по обе стороны живота? Заметил ли, что солдаты в походной форме? И что на форму смотрят из окон, дверей, с дороги, с тротуаров? Видел ли, как в окнах поезда, проползшего в Фюрт, заметались, запрыгали платки, зонтики, шляпы, руки и как на землю, к ногам солдат в походной форме, из окон посыпались, полетели цветы, сигары, папиросы — и опять цветы, цветы, цветы? Видел ли, как величественно запрокинули головы солдаты в походной форме и какая улыбка снизошла с их губ на платки, зонтики, шляпы, цветы? Солдаты в походной форме не подобрали всех цветов, брошенных им под ноги, а только воткнули по одной розе в дула винтовок и за пояса, к патронташам. Разве соберешь цветы, постланные отечеством на пути армии в походной форме? Видел ли все это Андрей?
Не все ли равно?
Андрей шел, опустив голову.
На светлой, вымытой лестнице, у двери квартиры, где он жил, неподвижно стояли люди в длинных черных пальто и низких котелках. Их было пятеро. Они были бесшумны. Андрей заметил людей, когда очутился в их кольце.
Бледнолицый, гладко выбритый, с добрым взглядом светлых глаз, приподнял котелок и спросил:
— Герр Старцов?
— Да.
— Будьте любезны. — И он приоткрыл перед Андреем отпертую дверь.
— Может быть, герр Старцов покажет нам свои вещи?
Четверо сняли котелки, пальто, пиджаки, отстегнули манжеты и засучили по локоть рукава полосатых рубах. На тонких ременных поясках раздевшихся людей, прилипнув к бедрам, в бледно-желтых кобурах висели маленькие кольты.
Глава отступлений
Легенды — сплетни — быль
Вилла Урбах лежит в горах, недалеко от границы Богемии. Кругом сосны — лиловые по вечерам, рыжие в полдень. Камни на вершинах гор лысые, остробокие. Если смотреть издалека, то кажется, что по горам нагромождена старая ломаная мебель. Впрочем, на одной вершине кланяются востоку Три Монахини в клобучках и откинутых на спину капюшонах. У одной в руках четки: это ползет из расщелины курчавый розовый вереск. В долине, вьющейся к вилле Урбах, бежит белое шоссе, рядом с ним — узкая колея железной дороги. Там, где долина упирается в покатое подножие Лауше, — красноватая, закопченная крыша станции. Сверху, с круглой, похожей на грудь, вершины Лауше, долина, шоссе, полотно дороги, станция — уместятся в горсти. Отсюда слушать пересвисты паровозов — как воробьиное чирикание. Здесь спит эхо, закопавшись в глубокую мякоть молодых сосновых игл. Зато каждый звук долины семь раз взбирается к стопам Трех Монахинь. Под вечер, когда по шоссе торопятся к ночлегу крестьянские повозки, у ног Трех Монахинь не усидит и отчаянный смельчак.
О вилле Урбах нет никаких легенд. Известно, что она называлась прежде фон Фрейлебен, пока последняя носительница этого имени не вышла замуж за человека без всяких занятий и вовсе не дворянина — Урбаха.
Если бы была нужда, на худой конец можно было бы придумать легенду и о вилле фон Фрейлебен. Но нужды нет.
На север от Трех Монахинь стоят руины капуцинского монастыря. Его сожгла молния в тот момент, когда монахи заманили в монастырский погребок двух красоток из соседней деревни. Все капуцины сгорели дотла. Остались в живых — чудом спасенные — обе деревенские красотки: провидение сохранило невинность в назидание христианам. Это подтвердили сельчане, которым достались красотки. Тут следует рассказ о том, какая драка завязалась между женихами всей округи из-за этих девушек: каждому хотелось прикоснуться через них к провидению. Но сейчас не время останавливаться на этом рассказе.
Речь идет о том, что у крестьян не было нужды в легендах. До того, как прийти сюда капуцинскому ордену, замок, христолюбиво послуживший смиренной братии, долгие годы был резиденцией владетелей небольшого маркграфства цур Мюлен-Шенау. Предки этого рыцарского рода были когда-то близки Ватикану и дважды снаряжали отряды ко гробу господню. В Тридцатилетнюю войну маркграфы отсиживались в замковых бойницах, как летучие мыши. Потом разбойничали в протестантской Саксонии. Потом тихо чахли. Кардинал Севастьян просил у маркграфов приюта для обнищавшей братии капуцинского ордена. Маркграфы отдали свою резиденцию под монастырь, оповестив об этом акте всех католических государей. К этому времени в замке оставались только мокрицы и пауки.
На запад от Лауше, почти у самого склона ее, угнездился новый замок — меньше, добродушней и моложе руин. Сюда были перенесены предки рыцарей, уступивших капуцинам мокриц и пауков. Здесь хранились реликвии владетельного рода. Здесь рос его последний отпрыск — молчаливый, гладенький, белокурый мальчик Максимилиан Иоганн фон цур Мюлен-Шенау. Он рос под надзором опекуна и на глазах у крестьян — потомков тех, что дважды пытались помочь господу богу, отняв его гроб у неверных.